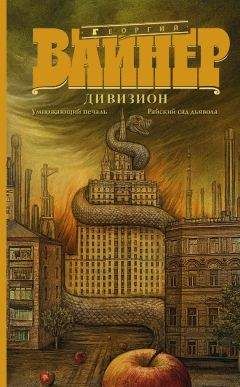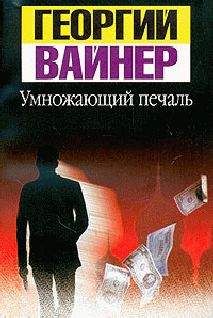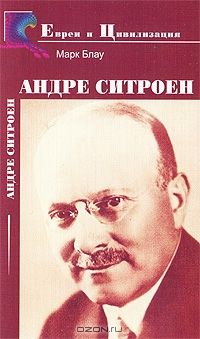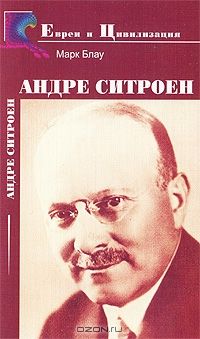Александр Серебровский:
ФАТВА
– Вот это он просил передать. Срочно!.. – сказала мать, протягивая маленький сверток.
– Можно мне? – ловко перехватил сверток Серега, внимательно осмотрел его, прикладывал зачем-то к уху – слушал, осторожно снял пластиковую обертку, понюхал, положил на стол, засмеялся: – Проверено, мин нет! Но лучше давай я посмотрю первым…
Серега осторожно развернул пакетик – там был кусок засохшего черного хлеба, густо присыпанного каким-то темным порошком.
– Что это? – с испугом спросила мать.
– Мне кажется, это перец, – сказал я. – Черный перец…
– Перец? Зачем? – удивилась мать. – Ничего не понимаю!
– Шутка, – сообщил Сергей. – Глупая шутка…
Мать смотрела на него недоверчиво.
– Сережа, ты думаешь, что ради дурацкой шутки Кот вызвал меня в собес? И мне не показалось, что он в веселом расположении духа…
– Мама, ты обещала дать нам по стакану чая, – напомнил я.
– Ой, Сереженька, Саша, простите меня ради Бога! Ничего голова не держит… – Семеня, она направилась на кухню, а я приказал-попросил Серегу:
– Говори…
– Это – фатва, блатная черная метка, – вздохнул Сергей и добавил: – Предупреждение о смерти…
Я взял хлеб, покрутил в руках, снова принюхался к перцу, пожал плечами и бросил горбушку на стол.
– Идиотизм! Пошлая оперетта! – У меня было ощущение, что меня насильно, против воли вволакивают в какое-то дурацкое стыдное действие. – Наш друг никогда не отличался тонкостью вкуса…
– Оставь! Сейчас не до этого, – сказал Серега, и мне не понравился его голос.
– Ты обеспокоен? – спросил я.
Серега мгновение колебался, а потом твердо сказал:
– Да! Честно говоря, я до сих пор думал, что ты сгущаешь краски. Но…
Вот тебе и возвращение в отчий дом! Родительское гнездо, вершинное достижение в жизни моих стариков, местожительство, которое я ненавидел.
Н-да, ничего не попишешь, ведь мои родители – люди штучные. Мать – человек с принципами, а отец был с представлениями.
Эта малогабаритная двухкомнатная квартира в Северном Измайлове есть не просто жилище добропорядочных служивых советских интеллигентов – когда-то она была наградой, государственным даром за выдающиеся заслуги моего отца.
Четверть века назад почтовый ящик, в котором он служил конструктором, зафигачил в космос какой-то невероятно хитрый пердячий снаряд – мол, оттель грозить мы будем шведам, американцам, сионистам и всей остальной враждебной нечисти. А может быть, и не грозить, а шпионски подсматривать, не влияет, – работу высоко оценили партия и правительство. На институт пришла поощрительная разнарядка наград: на усмотрение начальства надо было составить в пределах выделенной квоты список учрежденческих героев – кому ордена, кому госпремию, а кому жилье.
Отец, проживший всю жизнь с твердым представлением, что интеллигент не может ни у кого ничего просить, мучаясь от унижения и стыда за свое недостойное поведение, пошел к директору их закрытого института – матерому советскому академику в генеральских штанах, и, ненавидя власть, презирая себя, выпросил эту квартиру. До этого мы жили втроем в роскошной комнате площадью 8 квадратных метров в «одноэтажном строении коридорного типа» – попросту говоря, в бараке на восемнадцать семей. Когда я немного подрос, отец соорудил для меня полати – подвесную откидную койку, как полки в бесплацкартном купе. Это позволило втиснуть в комнату дамскую туалетную тумбочку, которую отец использовал для работы как письменный стол.
Зная, что отец никогда не станет торговаться, спорить и скандалить, институтские жуки-хозяйственники впарили ему вместо новой квартиры вот эту – «за выселением предыдущих жильцов».
Обычная хрущевская «распашонка», в большую комнату – целых 17,5 метра – выходили двери из прихожей, санузла и крошечной кухни. И запроходная спальня – 13,7 метра.
Мы все были счастливы, мы жили в хоромах.
Когда отец умер, я уже был взрослым парнем-студентом и, понимая, что на мать в этом смысле надежды нет, попытался через бюро обменять квартиру. Мне помогали Серега и Кот Бойко. Боже, каким истязаниям подвергали нас обменные контрагенты!
– Санузел раздельный?
– Нет, смежный, – гордо отвечал Серега.
– Паркет?
– Нет, линолеум, – пренебрегал я чепухой.
– Лифт есть?
– Нет, но у нас легкий четвертый этаж. Я за двенадцать секунд с велосипедом поднимаюсь, – успокаивал их Кот.
– Комнаты изолированные?
– Нет, смежные, но в спальне стенной шкаф.
– Мусоропровод?
– Нет, но сборник прямо у подъезда. Пищевые отходы вывозят на правительственный пункт откорма свиней, – заверял Серега.
– Дом кирпичный?
– Нет, панельный. Очень красивый! – вдохновенно лгал я.
– Высота потолков?
– Два шестьдесят. Может быть, даже больше…
– Какого же черта вы людям голову морочите! – орали они так, будто я назло им выстроил такую хибарню.
Я скидывал последний козырь:
– У нас есть балкон! Очень хороший!
Но они уже не слушали. Серега, с детства отличавшийся коммерческим идиотизмом, долго думал, потом предложил:
– Надо все разговоры начинать с балкона. Балкон нормальный…
Но скоро пришли из домоуправления, балконную дверь опечатали и забили гвоздями. Из-за проржавления арматуры в районе имели место факты обрушения балконов с жертвами – объяснили нам.
И я махнул рукой.
А лет десять назад, когда мне уже не надо было обращаться в бюро обмена, знакомые ловчилы-домопродавцы подыскали мне для матери прекрасную квартиру во Вспольном переулке. Но моя мать – женщина с принципами. Отказалась.
– Это будет непорядочно по отношению к твоему отцу… Все, что было в нашей жизни, мы разделили поровну… Глупо начинать мне барскую жизнь, когда его нет…
Я уговаривал, умолял, доказывал, совестил, объяснял – все попусту. Потом оставил, потому что понял – эта упертость не только от любви и памяти к отцу, это гордыня: она не уважала мои нынешние занятия, ей не нравились протекающие через мои руки большие деньги. Жалко, что еще тогда мы все недовыяснили. Далековато зашло…
Сережка толкнул меня:
– Але, старичок, ты что, затараканил? Ты о чем думаешь?
Я встряхнулся, оглядел снова родное гнездо, и было мне очень грустно.
– Вспоминал, как мы с тобой меняли эту прекрасную фатеру…
Вошла мать с подносом – чай, варенье, сухарики, расставила все по столу и сказала мне:
– Саша, я не могу понять…
И клокотавшее во мне волнение прорвалось наружу.
– Мама! Я тоже многого не могу понять, хотя и очень стараюсь. Скажи, пожалуйста, сколько составляет твоя пенсия?
– 360 рублей…
– Прекрасно! Держава с тобой в расчете – ты получаешь 60 долларов в месяц. Каждый месяц первого числа моя секретарша Надя привозит тебе еще тысячу долларов. Я мог бы давать тебе две тысячи или десять – безразлично, но я знаю, что ты человек не буржуазный и не имеешь дорогих вредных пристрастий. Поэтому я даю тебе только тысячу…
– Саша, почему ты заговорил об этом сейчас? – спросила мать.
– Хочу разгадать тайну людских поступков. Скажи, Христа ради, зачем ты идешь в собес унижаться из-за этой грошовой прибавки? Которую, кстати говоря, тебе никто и не собирается давать! Зачем? Чтобы досужие сплетники говорили, а щелкоперы писали, что олигарх Серебровский не кормит свою мать? Почему ты ездишь на трамвае в собес, когда по телефонному звонку к тебе мчится лимузин? Объясни мне, почему ты в одиночку, как партизанка Лиза Чайкина, ходишь на конспиративную встречу с вооруженным бандитом, когда тебя должен охранять генерал милиции Сафонов?
– Опомнись, Саша, – тихо сказала мать. – Этот бандит целую жизнь тебе был как брат… И вообще, от кого меня надо охранять?
– Мама, опомниться надо тебе! Вернись в реальную жизнь! Кот мне давным-давно не брат и не друг! Жизнь сделала нас врагами! Он хочет убить меня!
– Господи, Саша, что же ты сделал, что Кот хочет убить тебя? – всплеснула руками мать.
И я вдруг ощутил острое, мучительное чувство, почти забытое, давным-давно не испытанное – жуткую обиду!
Меня можно попробовать оскорбить. Довольно легко разозлить. Наверняка возможно разъярить. Но уже незапамятно давно никому не удавалось меня обидеть. Ведь обида – это саднящий струп на живой раненой душе, а я не живу с людьми, чьи слова могут достать меня до сердца.
Матери это удалось. С пугающей меня отчужденностью я опустошенно-холодно почувствовал, что не люблю ее. То есть, наверное, люблю все-таки, жалею, сочувствую. Но никак не могу освоить, что эта старая бестолковая женщина – моя мать, мое родоначалие, исток моей жизни.
Со злым смешком сказал:
– Серега, обрати внимание, что у моей мамы и вопрос не возникает, кто из нас виноват! Безусловно, это я отчубайсил нечто такое, за что меня стоит убить! Пророкам в отечестве своем презумпция невиновности не положена!
– Саша, сыночек, остановись, – с отчаянием говорила мать. – Что происходит с тобой? Ты не видишь себя со стороны…