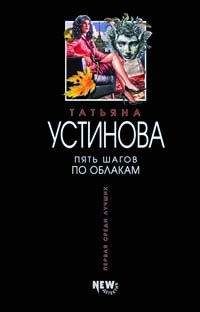— Скорее всего, — согласился Константинов.
— Я не знаю, — чуть не плача призналась Марьяна. — Я его вставила в дисковод, открыла, там сплошь какие-то файлы и с каким-то… странным расширением. Я такого не знаю. А один файл нормальный, я его открыла, а там…
— Там… — подсказала Лера, чувствуя неладное, — там что? Что там?
— Я… я вам лучше покажу.
Марьяна птицей порхнула за стол начальницы, чего раньше никогда не делала, и Лера вдруг подумала быстро, что понятия не имеет о том, что происходит в этом кабинете в ее отсутствие. По крайней мере, Марьяна села за стол так, как будто делала это много раз.
А может, и вправду сидела?..
Константинов подошел и стал у секретарши за плечом. Дисковод сожрал диск с приятным жужжанием, наверное, именно так плотоядное растение затягивает муху. Лера медлила, не подходила.
— Чертовщина какая-то, — сказал Константинов. — Правда, чертовщина!..
— Вот, Валерия Алексеевна! Вот! Слушайте.
— Алло, это булочная? — сказал компьютер голосом Валерии Алексеевны Любановой. — Если это булочная, взвесьте мне кило булок и кило огурцов! Ах, в вашей булочной нет огурцов?! Тогда идите на фиг!
— Что-о-о-о?! — протянула Лера, и глаза у нее стали круглые, как у сороки. — Какая булочная?! Какие огурцы?!
— Алло, — продолжал компьютер, — это администрация президента? Дайте мне этого вашего президента! Ах нету у вас президента?! Ну тогда дайте министра занюханного! Чего это он у вас в компах совсем не шарит, как ламак виснутый! — Голос Леры Любановой в компьютере, ее собственный голос, немного изменился, стал игривым, как всегда, когда она шутила. — Нарисуйте ему на коврике для мыши задницу покруче, может, он и научится в компах шариться! Сорри, но вы все давно устарели, и вам пора на помойку! Вы ведь даже программить не умеете, а Кобол, да будет вам известно, придумала попастая тетка, круто шарившая в этом деле и похожая на меня, Валерию Алексеевну Любанову! Так что хакер форева! Хакер форева навсегда!
— Вот, — сказала секретарша Марьяна беспомощно. — Вот это все, Валерия Алексеевна. Я не знаю, что это такое, откуда оно взялось, но я подумала…
Любанова была так ошарашена, что даже заговорить смогла не сразу. Она только с ужасом и недоверием смотрела на компьютер, как будто оттуда мог выползи тот, кто только что так отчетливо и ясно разговаривал ее собственным голосом.
— Наши программисты приехали? — ласково спросил Константинов у Марьяны. — Ты их сегодня видела?
— Н-нет, то есть да, да, видела! Я утром из машины выходила, а они на стоянке… разговаривали о чем-то.
— Разговаривали, — повторил Константинов, как будто матом выругался.
— Саша, что это такое?! — наконец произнесла Лера. — Кто это говорит? Это же не… я! Я ничего такого никогда… не говорила!
— Это голосовая программа, — сказал Константинов. — Цифровая подделка твоего голоса. Очень неплохая, между прочим. Виртуозно сделано. Пойду я, Лер, дойду до наших крутых хакеров. Если поймаю, ухи начисто пообрываю, клянусь, ей-богу!
— Ты думаешь… это они?!
— А ты думаешь, это кто? Про начальницу Любанову, которая похожа на крутую тетку? Кстати сказать, вот тебе и ответ на вопрос, кто звонил Левушке Торцу.
— Кто?! — крикнула Лера.
— Компьютер, — сказал Константинов.
* * *
И тут он понял, что это все всерьез.
Даже слишком всерьез. Должно быть, он поздновато спохватился, потому что к тому моменту, когда в нем взыграла осторожность пополам с милосердием, Мелисса уже тяжело дышала, висла на нем и пыталась расстегнуть его джинсы.
— Мила, — сказал Василий Артемьев довольно строго. — Что ты придумала?..
Она не ответила. Она только отступила, примерилась и снова взялась за дело. То есть за него, Василия Артемьева.
— Тебе нельзя, — пробормотал он, смущенный ее натиском. — Ты слышишь?.. Тебе нельзя! У тебя… стресс.
— У меня нет стресса.
— Ну, был. У тебя был стресс. Сильный. Ты… много пережила, и тебе нельзя. — Он сглотнул. Рот был сухой. — Тебе нужен отдых.
— Мне нужен ты, — сказала она. — А больше мне ничего не нужно.
Ну как он мог объяснить!..
Мелисса и не слушала. Она целовала его в шею, становилась на цыпочки, чтобы дотянуться повыше, а он ничем ей не помогал, стоял, прямой как палка, и даже руки по швам сложил, чтобы не трогать ее.
Нет, не так. Чтобы не дотронуться случайно.
Она засунула руки ему под майку и гладила спину, живот и грудь, и там, где проходили ее пальцы, оставался след, словно она проводила утюгом.
— Мила, перестань! Я не хочу.
— Зато я хочу.
С той самой минуты, когда Василий Артемьев примчался за ней на заправку на Кронштадтском шоссе, где она сидела в будке у толстой девушки-заправщицы и пила чай, у него в голове будто что-то сместилось.
Он стал с ней осторожен и нежен, как платная сиделка в больнице.
Он приносил ей ромашковый чай, бинтовал руки, мазал зеленкой ссадины и ни о чем не расспрашивал. Он бы вообще ни о чем так и не стал узнавать, если бы она сама ему не рассказала. Она рассказывала, а он слушал и молчал.
Он промолчал все время, что она говорила, сидя в их общей постели, широченной, как небольшое футбольное поле, натянув на голову одеяло. По-другому она не могла говорить о том, что с ней было.
О том, как она лежала в подвале, о том, как выпила какой-то отравленной воды, о том, как на алтаре из грубо сколоченных досок горели свечи, много свечей, а она не могла разлепить глаза и губы, потому что они были чем-то измазаны…
Тут она перевела дух и поплакала немного, и Артемьев принес ей воды со льдом. Она плакала в спальне, а он невозмутимо ушел на кухню, достал бутылку, тщательно отвинтил крышку, внимательно налил в стакан, стараясь не перелить. Чтобы хватило места для льда.
Затем он полез в холодильник — модерновый и очень умный холодильник ссыпал кубики льда в небольшой выдвижной ящик, и это было очень удобно, потому что Мелисса добавляла лед во все, что пила. Иногда даже в кофе добавляла. Зачерпнув горсть холодных, твердых и приятных на ощупь кубиков, Василий Артемьев тоже очень тщательно подумал о том, что надо бы добавить воды, чтобы холодильник наморозил еще немного. По одному он ссыпал кубики в воду, которая взрывалась тысячей мелких газированных фонтанчиков.
Василий немного посмотрел на фонтанчики.
Возвращаться в спальню ему не хотелось.
Он не мог слушать то, что она рассказывала. Не мог, и все тут.
Признаться в этом он тоже не мог.
Он стоял и смотрел в кипящую газом воду в стакане, потом закрыл глаза и постоял с закрытыми глазами.
Ничего не помогало.
Тогда он дернул кран, в раковину с шумом полилось из крана, и брызги полетели в разные стороны — он открыл слишком сильно.
Он закрыл кран и посмотрел на свой кулак, в котором был зажат оставшийся лед. Кулак был совершенно мокрым. Он высыпал лед себе за шиворот.
Холод как ожог охватил спину. Кубики быстро таяли, вода стекала за ремень джинсов, а он все повторял про себя монотонно: не могу, я не могу, не могу!..
Потом он взял стакан и вернулся к Мелиссе. Она выбралась из-под одеяла, жадно попила воды и продолжила свой рассказ.
Он слушал и знал, что должен дослушать до конца, что у него нет выхода, только дослушать!.. Потом он вытащил из-под одеяла ее забинтованную руку, подержал и поцеловал в то место, где не было бинта.
Она рассказывала, а он целовал.
Потом он заставил ее пойти в милицию и написать заявление. Одно заявление они оставили в Питерском райотделе, и там ей тоже пришлось все рассказать, но тогда его не было рядом, и подробностей он не знал.
Еще он не знал, что это произведет на него такое… разрушительное впечатление.
Василий Артемьев, будучи человеком взрослым, умным и сдержанным, был твердо уверен, что все проблемы, которые только возникают в жизни, вполне можно решить «цивилизованным путем». Примерно с пятого класса он перестал решать их «нецивилизованным», и дракам всегда предпочитал переговоры.
Теперь, в тридцать восемь лет, он вдруг с отчаянной ясностью понял, что убил бы того, кто держал Мелиссу в подвале и мазал ей глаза и губы воском.
Убил бы не задумываясь и не сожалея, и даже не пытаясь «решить эту проблему цивилизованным путем»!
Убил бы, даже зная, что рискует собственной свободой и еще тем, что потом, убив, остаток жизни придется жить, зная, что ты убил человека.
Ему было на это наплевать. Жажда убийства была так сильна, что он мог только улыбаться растерянной улыбкой и целовать Мелиссе руку.
Когда она закончила монолог, он принес ей успокоительное, чувствуя себя пуделем, который только носит поноску, а защитить не может. Не может, потому что он пудель, а не сторожевой пес!
Никогда в жизни Артемьев не чувствовал себя пуделем.
Она выпила и очень быстро заснула, привалившись щекой к его джинсовому бедру, а он сидел на кровати, гладил ее по голове, перебирал короткие, странно выстриженные пряди, которые так ему нравились, трогал сережку в маленьком распылавшемся ухе. Потом ушел на кухню и вылил в себя это самое успокоительное, мать его, прямо из флакона.