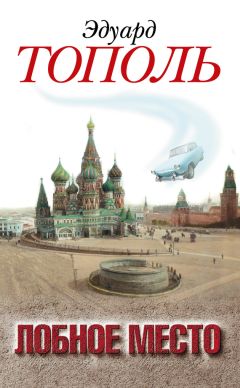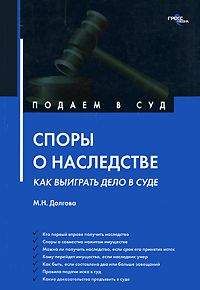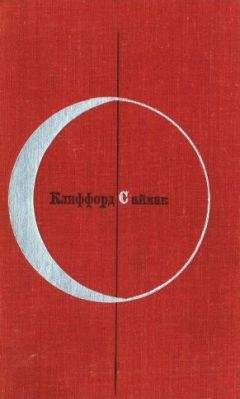– Людмила Андреевна?
Она сидела в узком кабинете за столом у окна и что-то писала – наверное, следующее обвинительное заключение. Но оторвалась от работы, удивленно посмотрела на нас, и ее взгляд остановился на нашем алом букете.
Я не дал ей опомниться:
– Людмила Андреевна, это вам от генерального прокурора! Прошу! – и прямо в руки вручил ей этот букет.
– Мне? – растерялась она и разом покраснела.
Или это алый букет так окрасил ее лицо? Но когда заалело лицо Акимовой, я вдруг увидел, что она поразительно похожа на Алену, только старше лет на пятнадцать и крупнее на столько же килограммов. Зато типаж мы угадали идеально! Татьяна Доронина, Наталья Гундарева, Любовь Слизка, Валентина Матвиенко…
– От генерального? – пролепетала она, вдыхая аромат бархатных роз у своего подбородка. – За что?
– Я не уполномочен, – сказал я с улыбкой. – Нам велено только вручить букет. Но от себя могу предположить…
Она подняла на меня вопросительные серо-голубые глаза.
– Да? Говорите…
– Сегодня в суде Пролетарского района слушается дело пятерки диссидентов с Лобного места. Вы его готовили. Но это только мое личное предположение. Всего вам хорошего!
– Спасибо. Какой странный день… Второй букет! Как вас звать?
Тревога! «Второй букет!» Значит, Акимов действительно был здесь с букетом! Бежать! Еще не хватало, чтобы она узнала мою фамилию и связала ее с моим отцом – «важняком» в Генпрокуратуре!
– Людмила Андреевна, мы только нарочные. Извините за беспокойство. Всего доброго!
И мы тут же ретировались, бегом скатились по лестнице и, выходя на улицу, миновали невесть откуда взявшегося пожилого охранника в темно-лиловом мундире б/у и без всяких знаков отличия. Он даже встал при нашем появлении, но мы пулей пронеслись мимо него. А когда отбежали от прокуратуры шагов на сто по направлению к метро, Алена вдруг остановилась:
– Вы негодяй!
– Почему?
– Она отправила в психушку Горбаневскую и Файнберга, а остальных посадила в тюрьму! А мы подарили ей цветы!
– Ты же хотела ее увидеть. И для этого сюда прилетела. А как еще мы могли к ней попасть?
– Вы думаете, с первым букетом приходил Сергей Петрович?
– Почти уверен. Пошли в метро, пока нет погони.
«Эти длинные коридоры… эти темные зеркала…»
Кажется, с этих слов начинается фильм Алена Рене «Хиросима, любовь моя», который нам показывали во ВГИКе на просмотрах по истории мирового кино. И это первое, что пришло мне в голову, когда мы оказались в Болшево, в Доме творчества.
Мы добрались сюда уже затемно, в половине седьмого, потому что по моей вине сложно добирались – сначала на метро от «Павелецкой» до «Комсомольской» (в вагоне было душно от сырой людской одежды, тяжелого запаха пота и какой-то усталой обреченности в серых лицах пассажиров и пассажирок), потом монинской электричкой со всеми остановками от Ярославского вокзала до станции Болшево («Взрослые билеты по двадцать копеек, детские по пять», – сказала кассирша). В поезде было сыро и холодно от ветра из то ли выбитых, то ли незакрывающихся окон; вагоны переполнены серолицыми пассажирами с тяжелыми кошелками и авоськами, набитыми продуктами, которые в столице «выбросили к праздникам»; и я проклинал себя за то, что пожидился взять такси, но боялся пересесть на такси даже на крупных станциях, потому что ни у станции Яуза, ни даже у Лосиноостровской не увидел у платформ ни одной машины. Правда, после Мытищ вагон почти опустел, и Алена, глядя в окно, вдруг сказала с тоской:
– Это ужасно…
– Что ужасно?
– Какая у нас была безрадостная страна…
Я молчал. Что я мог возразить? За окном – тоскливая панорама чахлых перелесков, убитых желто-серыми пятнами болот, какими-то сараями, промышленными свалками, заборами и кирпичными складами.
Ежась в китайском плаще, Алена вдруг продолжила:
– Знаете, я вдруг подумала: как только у русских появлялись деньги, они уезжали – Тургенев в Париж, Гоголь в Рим, Достоевский в Венецию, Горький на Капри, Маяковский и Евтушенко – в Америку. Даже Нобелевскую получили только те, кого выбросили, – Бунин, Солженицын, Бродский. А кого не выпускали, вспомните: Пушкин убит, Лермонтов убит, Гумилев расстрелян, Есенин повесился, Маяковский застрелился, Цветаева повесилась, Мандельштам расстрелян, Бабель расстрелян, Шпаликов повесился, Высоцкий сгорел от наркотиков. У какой еще литературы столько трупов?
Я мог бы продолжить этот скорбный список. Действительно, у какой еще страны рождается так много талантов, что их можно убивать, гноить по тюрьмам и выпалывать, как сорняки, или выбрасывать за рубеж?
Но я видел, что впечатлительную Алену уже лихорадит то ли от этих горестных мыслей, то ли от начинающейся простуды, и снова промолчал. По счастью, в Болшево на грязной, в лужах привокзальной площади стояла под фонарным столбом одна замызганная «Волга» с шашечками, я запихнул в нее уже захлюпавшую носом Алену, дал водителю рубль и, не помня по рассказам Мастера о том, когда в Доме творчества ужин, на всякий случай пошел в «Продмаг». Тут было всё, что можно увидеть в фильме Смирнова «Осень» и о чем можно прочесть у Ерофеева в «Москва – Петушки». Три отдельные толчеи у трех коротких прилавков – винно-водочного (там народ сметал в основном «Портвейн-777», «Плодово-ягодное» и «Солнцедар»), гастрономия (там были ливерная колбаса, загадочное «растительное сало» и три сорта сыра) и хлебо-булочного (черный хлеб буханками и белые батоны «французские») плюс отдельная очередь в единственную кассу. При этом сначала нужно было протолкаться к прилавку, выяснить у зачумленных и крикливо-хамских продавщиц стоимость того, что ты хочешь купить, потом отстоять очередь в кассу, заплатить, получить чеки и с ними вновь протолкаться к прилавкам за своими покупками! Всех, кто страдает от ностальгии по Советскому Союзу, я бы на один день отправил в этот болшевский продмаг 1968 года – пика могущества СССР!
Когда через двадцать минут я выбрался из продмага, прижимая к груди пакеты с сыром «Советский» (300 граммов), глазированными сырками (6 штук), коробкой конфет «Сливочная помадка», «французским» батоном и бутылкой коньяка «Арарат», на моем китайском плаще уже не было двух пуговиц, а туфли можно было смело помещать на авангардистское панно Оскара Рабина или Комара – Меламида.
Дом творчества оказался в пяти минутах езды от станции, а ужин, как выяснилось, начинался ровно в семь.
Одноэтажный административный корпус, в котором размещались бухгалтерия Дома и квартира директора, примыкал к еще открытым воротам, в его окнах горел свет. Алексей Павлович Белый – полный, высокий, пятидесятилетний, с крупным лицом и гладко зачесанными пепельными волосами – удивился, что мы совсем без вещей, но я и тут легко соврал, что мы прямо с самолета из Свердловска, а наш багаж улетел почему-то в Ташкент, теперь нам привезут его только дня через три-четыре.
– Бывает… – сказал он философски, забрал наши паспорта и по мокрой, в желтых кленовых листьях, асфальтовой дорожке под черными полуголыми деревьями проводил нас в «красный», как он сказал, коттедж. Зажигая там свет, сообщил: – Здесь тепло, я еще неделю назад включил отопление. – И в коридоре, потрогав горячую батарею парового отопления, словно мельком спросил: – Вас вместе селить или каждому по комнате?
– Каждому по комнате, – ответил я.
– Выбирайте комнаты, коттедж свободен. У нас пока пусто, заезд будет в субботу на семинар редакторов. Вы не редакторы?
– Нет, мы сценаристы.
– Ладно. Оставьте ваши продукты и пошли ужинать.
– Алексей Павлович, извините, а у вас случайно не найдется какой-нибудь лишней пишмашинки, пока придет наш багаж?
– Гм… Найдется, но завтра. Сегодня кладовщица уже ушла…
И наконец вот он – легендарный Дом творчества, о котором я столько слышал от наших киношных динозавров и о котором так взахлеб и подробно рассказывал Мастер. Огромные венецианские окна полукруглой, на первом этаже столовой яркими желтыми пятнами светятся сквозь черную вязь полуголых осенних веток… Мы проходим мимо них к левому крылу двухэтажного здания… С неожиданным даже для самого себя, циника, волнением я, следуя за Белым, поднимаюсь по трем ступенькам бокового входа и иду по коридору вдоль стен с большими фотографиями-кадрами из фильмов «Чапаев», «Волга-Волга» и «Падение Берлина». Но в большом зале столовой действительно – почти никого! Люстры горят, все столики накрыты белыми накрахмаленными скатертями, столовыми приборами и белыми салфетками, заправленными в мельхиоровые кольца, но только за одним дальним столиком у левого окна ужинают четверо: два старика – один худой и остроносый, второй респектабельно крупный, с толстой палкой, а с ними высокий и чем-то знакомый мне молодой блондин и крупная пожилая дама в розовом не то кимоно, не то пеньюаре…
Белый показал нам наш столик у окна в правой стороне зала; сорокалетняя официантка в белом переднике и белом чепчике тут же поставила перед нами две креманки с творогом и спросила: