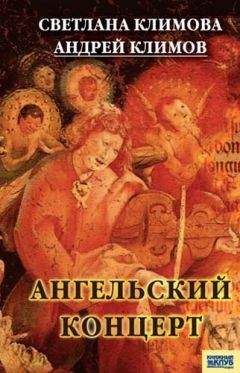Он метнул свирепый взгляд на разоренный сад позади участка Кокориных, и я кивнул — дескать, понимаю. В голове у меня вертелась пара готовых вопросов, но я не знал, как к ним подступиться. Сосед Кокориных был из тех, кто слышит только себя, если заводится, то надолго, и никогда не отвечает прямо, если его о чем-то спрашивают. Апоплексический темперамент.
Все-таки я спросил:
— Вы присутствовали на похоронах, Григорий Семенович?
Надо отдать должное — соображал он быстрее, чем я ожидал.
— Так ты из ментовки, что ли? — Кудлатые брови соседа поползли к переносице, лоб собрался баяном.
Ну, к таким вещам мне было не привыкать.
— Нет, — со вздохом сказал я. — И не из прокуратуры.
— Тогда какого хрена я должен тебе докладывать?
— Не хотите — не надо, — я пожал плечами, вроде как собираясь свернуть разговор. — Вы что, сильно не ладили с соседями?
Тут ему словно скипидару в штаны плеснули. Мои худшие опасения подтверждались.
— Это с Матвеем, что ли, и с Ниной? — он зловеще побагровел и завертел шеей, словно ворот свитера стал ему тесен. — Выбирай выражения, юрист! Я этим людям по гроб жизни обязан…
Он осекся, споткнувшись о «гроб», а я не стал выяснять, чем же конкретно он им обязан.
— Вы ничего такого не замечали после похорон? Чего-нибудь особенного? — вопрос был задан вслепую, я ни на что не рассчитывал.
Перед тем как ответить, сосед зачем-то посмотрел на мои руки. Только теперь я заметил, что все еще машинально кручу на большом пальце кольцо с ключами.
— В доме-то все цело, так?
Я подтвердил, и он удовлетворенно кивнул.
— Павел просил поглядывать. Опять же — сигнализация… — Он замялся, выпятил пухлые губы, но потом как будто раздумал.
— Значит, ничего? — спросил я.
— Нет. — Он оторвался от сетки, снова закурил и взялся складывать стремянку. Я стоял, слушая его сосредоточенное сопение и возню, пока сосед, не поворачиваясь, произнес:
— В пятницу тут весь вечер простояла машина. На противоположной стороне, метрах в пятидесяти. Темно-вишневый «дэу». В нашем квартале такого дерьма никто не держит. Из машины никто не выходил, а утром ее уже не было.
— В пятницу, то есть двадцать первого июля? — переспросил я, потому что точно знал, что двадцать второго, в субботу, на третий день после похорон родителей, Павел и Анна приезжали на Браславскую, чтобы прибраться в доме. На зеленом «ниссане».
— Ну, — буркнул сосед, защелкнул крючки стремянки и вскинул ее на плечо. — Будь здоров, юрист.
Он поднырнул под корявый сук и косолапо зашагал к краснокирпичному бунгало в глубине своего участка. Уже на ходу он развернулся вместе с ношей и крикнул:
— Под ноги поглядывай, парень! Там у них старая выгребная яма.
Я проводил его взглядом, а потом вернулся в заросли, опустился на корточки и принялся разгребать опавшие листья над тем местом, где виднелся торец сгнившей доски.
Если честно — не знаю, зачем мне это понадобилось, но я не останавливался, пока из-под листьев и мелких сучьев не показался сколоченный из шести горбылей щит, перекрывавший, судя по всему, горловину ямы. Завален он был не только листьями — год за годом сюда сбрасывали сорняки, выполотые на грядах, и древесина щита прела и плесневела вместе со всей этой биомассой, пока сама не превратилась в труху. Я взялся за край доски — он остался у меня в руке. Часть щита на ширину трех досок и где-то в половину его длины вообще отсутствовала, но понял я это только тогда, когда убрал лежавший сверху кусок старого шифера.
Я подумал о качелях, велосипеде и о том, что не стал бы оставлять здесь ребенка без присмотра. Это была настоящая, первоклассная западня — вроде тех, что в Экваториальной Африке устраивают у водоемов пигмеи мбути.
Опираясь о край, я заглянул в дыру. Там было темно и, судя по звуку падения двух-трех обломков дерева, сухо. Глубина явно превышала три метра, иначе света, проникавшего в отверстие, хватило бы, чтобы разглядеть дно. Дна я не видел, но на полметра ниже уровня почвы из обложенной кирпичом стены выступала чугунная труба с забитым мешковиной отверстием. Ямой, очевидно, давным-давно не пользовались по назначению — лет двадцать или больше, с тех пор как в этот район подвели коллектор городской канализации и Браславская перестала считаться глухой окраиной. Поэтому никакого специфического запаха не было. Зато был другой — тот, что заставил меня отшатнуться, вытереть влажные ладони скомканным бумажным платком и отправиться на поиски фонаря.
Уже по пути к дому я вспомнил, что видел его там же, где и резиновые сапоги, — в стенном шкафу, на боковой полке слева. Фонарь был мощный, с большим аккумулятором и криптоновой лампой, и вряд ли за это время он разрядился окончательно. Я проверил его в прихожей, стараясь не думать о том, что меня ждет в глубине сада, взглянул на часы и спустился с крыльца.
Не буду утверждать, что чувствовал себя в своей тарелке, когда снова оказался в малиннике, направил отражатель фонаря в черноту ямы и передвинул ползунок выключателя. Лампочка вспыхнула, выхватив в глубине бледный овал, но мне все равно пришлось приставить ладонь к глазам, заслоняясь от дневного света, чтобы хоть что-то увидеть.
Прямо подо мной лежал труп собаки. Я встал на колени и опустил фонарь пониже.
Это был крупный пес серебристо-пепельной масти, лабрадор, насколько я в этом разбираюсь. Разложение затронуло мягкие ткани: глаза провалились в глазницы, отчетливо обозначился остов, обнажились в мертвом оскале сахарно-белые молодые клыки. Все тело стало плоским, словно его выпотрошили, но шерсть осталась такой, как при жизни, — чистой и светлой. В луче фонаря на ней плясали синеватые искры.
— Привет, Брюс, — сказал я. — Неважно выглядишь.
Не очень-то мне понравилось, как звучит мой собственный голос. Я еще раз опустил фонарь на вытянутой руке и тщательно обследовал дно ямы. Ничего там больше не было, если не считать какого-то количества перегнивших листьев и обломков досок — той части крышки, которая рухнула вниз вместе с Брюсом. Независимо от того, сам он туда угодил или его сбросили уже мертвым. На теле пса не было видимых повреждений, однако позу его трудно было назвать естественной. Ни одно живое существо с целым позвоночником так не лежит. Не говоря уже о мертвом.
Оперативники Гаврюшенко выгребную яму прозевали — если, конечно, вообще дали себе труд заняться садом. А от того, как погиб Брюс, зависело многое. В том числе и объективная оценка остальных событий.
Я погасил фонарь, прикрыл дыру в досках куском шифера — точно так же, как кто-то сделал это до меня, а потом забросал все листьями и ветками. Чтобы выяснить причину смерти Брюса, нужен был образец тканей, а в мои планы на этот день не входило обследование выгребных ям. Да и будь у меня этот образец, я не располагал технической базой для анализов такого уровня сложности. Даже если бы мне удалось установить, что пес скончался от той же дряни, которая убила обоих супругов, а не от удара арматурным прутом, раздробившего позвонки, это ничего не доказывало. Кроме одного: тот, кто закрыл дыру шифером, точно знал, что тремя метрами ниже корней травы лежит любимец Нины и Матвея Кокориных. И этот факт я собирался использовать на всю катушку.
Когда я возвращался в дом по другой тропинке, под ноги мне попалась игрушка — розовый бегемотик из тех, которыми набиты игровые автоматы для малышни в супермаркетах. Я осторожно обошел его, поднялся по ступеням, скинул башмаки — не в моих правилах таскать грязь с улицы — и прошлепал в кухню. Там я заглянул в холодильник, без всякой цели выдвинул пару-тройку ящиков со всякой всячиной, уселся на табурет и вытащил сигарету.
Нахальство, неосведомленность, отсутствие всякой системы — в общем, все то, что, словно в насмешку, называется «свежий глаз». Плюс несколько случайностей, которые язык не поворачивается назвать случайностями. Ну кто в здравом уме поверит, что благодаря этой чепухе мы с Евой нашли то, что нашли, — блокнот, тетрадь и все остальное? Я и сам не верил, но других объяснений у меня не было. Дом Кокориных, начиная с записки в контейнере для мусора, сам подавал знаки. Нужно было только не прозевать их и суметь вовремя прочесть.
То же самое и сейчас. После Брюса и разговора с соседом я опять не знал, что ищу, но, сидя в кухне и припоминая детали обстановки комнат и мастерской наверху, все больше утверждался в мысли, что там этого нет. Даже не так — я понял это еще ночью, вернее, в тот мутный предрассветный час, когда, отправляясь облегчиться, человек не вполне уверен, спит он или бодрствует. Вдобавок как раз перед тем мне снились довольно странные вещи, и, если я еще раз скажу, что мне привиделось слово, на все лады повторявшееся в записях Нины Дмитриевны и с первых страниц прозвучавшее в записях ее мужа, это все равно ничего не объяснит.