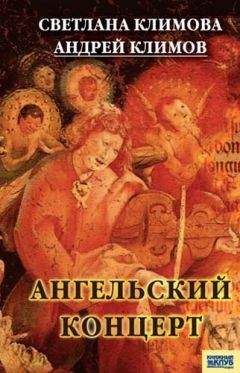— Пять тысяч пятьсот, — сказал я. — Пересчитайте.
— Да-да, — рассеянно согласился он. — Так вы говорите, это в камине, в кабинете отца?
— В тайнике под каминной доской. Ключ от него я оставил на столе в гостиной.
— Как вам удалось его обнаружить?
— Чисто случайно. Ключ лежал в пустой сахарнице из того сервиза, которым никто не пользовался. А вот чтобы найти подходящую замочную скважину, пришлось повозиться.
— Фантастика, — усмехнулся Кокорин. — Никогда бы не подумал, что отец… У нас с Анной и в мыслях не было…
Он не стал распространяться насчет того, чего у них не было в мыслях. Просто взял деньги, снял резинку и отправил ее в малахитовую пепельницу с бронзовой ящеркой на краю, а затем пересчитал, причем вышло у него не хуже, чем у банковской машинки. Последнюю пятидесятку, прятавшуюся внутри, Павел Матвеевич щелчком, как лишнюю карту, отправил на стол, и я увидел, что к ней приклеен листок из блока для записей, точно такой же, как тот, который Ева обнаружила в кухонном контейнере — голубоватый, с липкой полоской по краю.
Я мысленно обругал себя кретином. За то, что не догадался снять резинку. Чтобы пересчитать свою находку, мне показалось достаточным пробежаться пальцами по краю свернутой в трубку пачки.
Почти одновременно с Павлом Матвеевичем мы подались к центру стола. На листке черным фломастером рукой Матвея Кокорина было написано следующее: «Пять пятьсот. Долг Косте Галчинскому».
Дочитав, Кокорин-младший изменился в лице. Мобильник в кармане пиджака, висевшего на дверце шкафчика из карельской березы, сыграл первые такты «Love, love me do!..», но он его не услышал. Опустившись в кресло, Павел Матвеевич растерянно произнес:
— Не понимаю…
— В чем дело? — спросил я, но он уже владел собой.
— Какая-то чертовщина… При чем тут Галчинский?
— Тут я пас.
К предметам на столе я добавил связку ключей от дома на Браславской и секунду поколебался.
— Эта Библия… — Я протянул руку и положил на переплет книги, словно собираясь присягнуть. Кожа переплета, в прошлом алая, а сейчас сильно потускневшая и выгоревшая, показалась мне теплой, как у живого существа. — Это ведь довольно ценная вещь?
— Ничего примечательного. Не уникум. И стоимость ее не так уж значительна.
— Тогда вы не будете возражать, если книга некоторое время побудет у меня? Через пару дней я позвоню или сам загляну к вам. Возможно, тогда кое-что прояснится.
Из галереи я вышел с чувством исполненного долга. Оно даже усилилось, когда на углу площади Свободы и Монетного переулка я взглянул на часы. Без семи два. Я успевал к концу перерыва — как и обещал своему начальству. Оставалось пересечь сквер в центре площади с памятником вождю пролетариата, загаженным голубями. Сквозь ржавые кроны каштанов уже виднелись пилястры мрачного здания городской администрации, когда до меня дошло, что там творится неладное. Я ускорил шаг.
На тротуаре перед зданием шевелилась внушительная толпа. Еще издали я решил, что никакая это не демонстрация и не митинг — народ вел себя на редкость дисциплинированно, не скандировал, не размахивал флагами и был прилично одет. В стороне, у забора строящегося подземного перехода, стояли две пожарные машины, «скорая» и фургон МЧС. Пространство у входа и часть газона с голубыми елями были огорожены желтой пластиковой лентой, там прохаживался человек в камуфляже с мегафоном через плечо.
Я ввинтился в толпу, в которой было полно знакомых лиц — из тех, что ежедневно попадались на глаза в коридорах, и почти сразу натолкнулся на свою начальницу — даму лет пятидесяти, симпатичную и, несмотря на долгую чиновничью карьеру, не потерявшую чувства юмора. Она курила, торопливо затягиваясь и поглядывая на плотно закрытые двери здания. На плечах у нее был кожаный плащ внакидку.
— Что тут творится, Галина Львовна? — спросил я, забыв поздороваться.
— Башкирцев? — она не смогла скрыть удивления, обнаружив меня здесь. — Как ваш дантист?
— В хорошей форме, — сказал я. — Незабываемые ощущения.
Она усмехнулась, бросила взгляд на человека с мегафоном, а потом на окна третьего этажа, где располагался гуманитарный департамент. Все шторы на окнах кабинетов были задернуты.
Заметив мою недоумевающую физиономию, начальница спохватилась:
— Ах да, вы же у нас недавно, значит, не в курсе… Нас опять собрались взрывать!
— То есть как взрывать?
— Как обычно. — Она брезгливо затоптала сигарету. — Господи!.. Живем будто на вулкане, нервов не напасешься…
— Это что, серьезно? — спросил я.
— Да бросьте вы, Егор Николаевич. — Она неожиданно подмигнула и невесело рассмеялась. — Мы что, дети? Просто кому-то срочно понадобились документы, к которым в обычном режиме доступа нет. Лично я на вашем месте отправилась бы домой.
Упрашивать меня не требовалось…
Еще не было трех, когда я швырнул кейс под вешалку, крикнул: «Привет, детка, я уже дома!» — и прошествовал к холодильнику, чтобы соорудить себе бутерброд толщиной с учебник по морскому торговому праву. Меня не удивило, что Ева не отозвалась и даже не спросила, почему я так рано, — должно быть, до сих пор дуется.
Жуя на ходу, я вошел в комнату и с удивлением обнаружил ее сидящей на полу в дальнем углу. Блокнот Нины Кокориной лежал рядом с пустой кофейной чашкой, а выражение лица у Евы было, мягко говоря, странным. Она даже не подняла на меня глаза, и я решил, что мне придется потрудиться, чтобы заслужить прощение.
Мужчины в таких ситуациях не блещут сообразительностью, и я не был исключением. Первым делом я принялся бодро выкладывать все, что произошло со мной за день, но когда дошел до выгребной ямы и собачьего трупа, она оторвалась от созерцания блокнота и без всякого выражения спросила:
— Так, значит, они все-таки добрались до Кокориных?
— Кто — они? — я застыл с набитым ртом, поражаясь легкости, с которой она произнесла то, в чем я все еще продолжал сомневаться.
— Откуда мне знать? — сказала Ева. — Пожалуйста, дай и мне сигарету.
«…Корона из терний вдавилась в Его голову: она закрыла половину лба. Кровь стекала многими ручьями. Потом разлился смертный цвет. Когда Он испустил дух, уста раскрылись, так что всяк мог видеть язык, зубы и кровь на устах. Глаза закрылись, колени изогнулись в одну сторону; ступни извились вокруг гвоздей, как если бы они были вывихнуты. Судорожно искривленные пальцы и руки были простерты. Ребра выдаются, и их можно сосчитать, плоть иссохла, живот провалился…»
Это записал каноник, прибывший с семидесятилетней Биргиттой Годмарсон в Палестину, с ее слов, когда оба находились у подножия холма, где тринадцать с лишним веков назад были поставлены три грубо сколоченных креста из бывших в употреблении брусьев. Дерево в Святой земле во все времена было удовольствием не из дешевых.
Ничего иного и не могла увидеть там знатная дама шведского королевского рода, овдовевшая в сорок лет, в муках родившая восьмерых детей, с детства имевшая видения и искренне считавшая, что Бог избрал ее посредницей между собой и людьми, в том числе венценосцами и князьями Церкви. Близкие смеялись над ее видениями, а посредничество не имело никакого успеха: король Швеции, даже не выслушав ее возражений, выступил крестовым походом против эстонцев и латышей, отчаянно цеплявшихся за своих идолов; попытки организовать переговоры между англичанами и французами, бог знает какое десятилетие воевавшими между собой, ни к чему не привели, а Папа Климент VI, засевший в Авиньоне, в городе, который только ленивый не рифмовал с Вавилоном, ответил на ее уговоры вернуть столицу Церкви в Рим бесцеремонным отказом.
Разочарованная, но с неизменной улыбкой, не покидавшей ее лица, госпожа Годмарсон основала монашеский орден, переселилась в Рим, во всеуслышание назвала Папу «убийцей душ, несправедливостью превзошедшим Пилата, а бессердечием Иуду» и повела строгую жизнь, чтобы на закате дней вместе с любимым сыном Карлом и престарелым духовником отправиться в Иерусалим, что по тем временам считалось подвигом, и немалым.
Но не успели паломники подняться на борт галеры в Неаполе, как грянула беда: Карл был представлен неаполитанской королеве Джованне, и между этими, в общем, уже немолодыми людьми вспыхнула страсть — чувство такой напряженной и затуманивающей рассудок силы, какой Новое время уже не знало. У Карла в Швеции осталась жена, у Джованны в Испании — третий по счету муж.
В ужасе от этой ситуации, Биргитта день и ночь не вставала с колен, умоляя Бога указать хоть какой-то выход. Спустя несколько дней ее обожаемый Карл простудился во время прогулки и захворал гнилой неаполитанской лихорадкой, а через две недели, после страшных мучений, лежал в гробу.
Мать пережила его на два года — и только для того, чтобы все-таки добраться до Святой земли и пасть «на лице свое» в сухую пыль у подножия Голгофы. Духовник, единственный, кто всерьез относился к видениям престарелой дамы, часть из них записал подробно, а впоследствии составил из этих записей книгу «Откровений Биргитты Шведской». Впрочем, доверить бумаге он решился далеко не все, а немало из того, что, по его мнению, могло повредить благочестивому образу опекаемой им особы, исправил по собственному разумению.