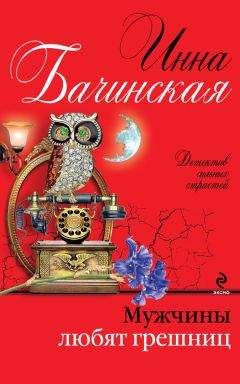Каюсь, я желал ему выздоровления хотя бы затем, чтобы узнать правду. Лена сказала, он знал, что делает… смешивая алкоголь и снотворное. Он хотел умереть. Это ли не доказательство вины?
Ночью позвонила Рената и сообщила, что Казимир пришел в себя. Голос у нее был возбужденный. Она попросила меня позвонить маме и Лене, обрадовать их. Маму я будить не стал, а Лене позвонил. Трубку никто не взял. Дети, Таня и Костик, были у бабушки. Я оставил сообщение, что Казимир пришел в себя и я собираюсь в больницу. Попросил перезвонить мне на мобильный, сказал невольно с изрядной долей сарказма:
– Радуйся, твой муж жив! Праздник продолжается.
Мне казалось, я всегда знал, что брат вывернется. Он всегда выворачивался. Жизней у него было как у кошки – семь, а то и поболе. Он мог заливать себя алкоголем, глотать пачками снотворное, вкалывать до седьмого пота, лезть в драку и не пропускать ни одной юбки – и хоть бы хны! Его ангел-хранитель всякий раз успевал подставить руки. Он падал с лесов на стройках два или три раза – и приходил домой на своих двоих. Два раза побывал в автомобильных авариях и отделывался лишь царапинами и легким испугом. Таков мой брат Казимир. Любимчик фортуны.
Город был пуст и призрачен. Сыпал холодный осенний дождь, горели тускло уличные фонари. В такие ночи обычно умирают, а мой брат восстал.
Я не учел того, что ночью посетителей в больнице не принимают. Мне предложили дождаться утра. Хмурая небритая личность, дежурный медбрат, открывший на мой настойчивый стук, подобрел при виде денег и предупредил: если меня обнаружит дежурный врач, мало не покажется, а он отопрется – ни сном ни духом в случае чего. Я пошел, таясь, как шпион, нескончаемыми больничными коридорами. Вдоль стен горели выморочные лампочки, почти не дававшие света. Я едва не пропустил нужную палату. Дверь оказалась приоткрыта. Там было темно, лишь из коридора падал слабый свет.
Я увидел, что Рената держит брата за руку и что-то тихо говорит. Казимир сосредоточенно слушает. При виде меня они оба улыбнулись. Рената протянула мне руку. Дружная семья. Слова застревали у меня в горле, я не мог издать ни звука. Рената отнесла это за счет радостного волнения, Казимир же вообще соображал слабо, судя по тому, как он выглядел. Он смотрел на меня и улыбался бессмысленно. Лазарь, восставший из гроба.
– Садись, – предложила Рената, отодвигаясь, давая мне место рядом с собой. – Позвонил маме?
– Не хотел ее будить.
Никто из них не спросил о Лене.
– Я сейчас! – Рената легко поднялась, и мы остались одни.
– Братуха… – забормотал Казимир, протягивая мне руку, которую я, помедлив, взял. Его ладонь оказалась теплая, живая. – Такая хрень, понимаешь… чуть лапти не сплел… – Ему было трудно говорить, слова ворочались во рту тяжело как камни, он облизывал сухие губы сухим языком. – Мотор… забарахлил… Все! Надо завязывать… на хрен!
Что он несет? Он что, ничего не помнит?
– Братуха пришел! – повторил он. – Живой… Мы еще постриптизим, будь спок! Все впереди…
Глаза его стали закатываться, в горле забулькало, и я выскочил из палаты, крича:
– Сестра!
А наутро был праздник. В полном смысле этого слова. Леша Добродеев принес шампанское и ускакал собирать стаканы по палатам: «Нам нужнее!» Надеюсь, он не имел в виду, что тем уже все равно. Доктор Добрянский привел мужчину со стертым лицом и кривоватой ухмылкой – заведующего отделением реанимации. Он обнимал его, называл Аликом, размашисто крестился и ревел басом:
– Вытащил! Все-таки вытащил! Молодец, Алик! А я, дурак старый, признаться, сомневался! Сомневался, скотина! Сегодня же поставлю свечку! За здравие! Дай я тебя поцелую!
Он смачно целовал заведующего в обе щеки. Тот слабо защищался. Он не привык к подобным проявлениям чувств. Его пациенты и их родные вели себя не в пример скромнее.
Я не знал, что доктор Добрянский стал верующим. Правда, сейчас все ходят в церковь, мода такая. Рената сияла. Мама плакала. Танечка, рослая девица с детским лицом, держала отца за руку. С другой стороны кровати примостился Костик. Леша вернулся со стаканами. Пробка взлетела в воздух.
Казимир, чисто выбритый, очень бледный, неуверенно улыбался. Он был похож на святого мученика. Я стоял в стороне, и он поискал меня глазами. Я не чувствовал себя участником праздника. Радости у меня не было вовсе. Я не решил, что именно скажу Казимиру и скажу ли вообще. Меня раздирали два желания – оставить все как есть и хорошенько вывернуть его наизнанку, встряхнуть, даже ударить. Каждый должен отвечать за свои поступки.
Я выдавил из себя улыбку. Казимир смотрел томно, похоже, чувствовал себя именинником. Лешка сунул ему стакан, Казимир опрокинул его и крякнул – шампанское шибануло в нос. Доктор Алик всплеснул руками. Старик Добрянский на правах старшего отвесил Лешке подзатыльник. Женщины расхохотались. Мама сияла глазами, и я подумал с тоской, каково ей будет узнать про Казимира и Лиску? Оставить все как есть, как предлагала Лена? Пусть мертвые хоронят своих мертвецов…
Лена… Где она, кстати? Почему-то никто о ней не вспомнил. Она мне не перезвонила. Мне стало неловко за то, что я наговорил на автоответчик.
Доктор Алик озабоченно шепнул что-то Добрянскому, тот кивнул и стал выпроваживать посторонних из палаты.
– Пора и честь знать, – гудел старик. – Хорошего понемножку. Приходите завтра, только без этого самого! – Он погрозил пальцем Добродееву.
Прощальные поцелуи, объятья, смех.
– Артем! – позвал Казимир. – Останься.
И мы остались вдвоем. Он протянул мне руку. Три дня небытия обострили в нем братские чувства. Или делить нам больше стало нечего?
– Зачем ты это сделал? – спросил я, держа его за руку.
– Что? – Он смотрел удивленно.
– Зачем нужны были эти таблетки, весь этот спектакль?
– Какие таблетки? – не понял он.
Я всматривался в его лицо – притворяется? Или действительно не помнит? Неужели ему не сказали?
– Ты хоть знаешь, почему ты здесь?
Он задумался, потом улыбнулся своей ангельской детской улыбкой и сказал беззаботно:
– Сердце? Несчастный случай? На стройке? Ничего не помню, отрубился на хрен! Просыпаюсь – где, думаю, нахожусь? Смотрю: Ренатка глаза вылупила как на привидение и за руку меня хватает. А она откуда здесь, думаю. Вроде я был дома… – Он довольно хохотнул
Он не притворяется. Он действительно ничего не помнил. Или все-таки притворяется?
– Ты наглотался снотворного и запил его коньяком, – сказал я.
– Снотворного? – Похоже, он удивился. – Какое снотворное? Я и так сплю как бобик. Стройка лучшее снотворное. Наломаешься как последняя сволочь… Знаешь, братан, я вроде как с того света, ты себе не представляешь, что это такое! – Его несло, ему хотелось говорить, он заново родился.
– Ты пытался покончить с собой, – сказал я. – Ты выпил бутылку коньяка и наглотался какой-то дряни.
– Я?! – Он вытаращил глаза и выпустил мою руку. – С каких это пирогов? Мне жить еще не надоело!
– Танечка нашла тебя и вызвала «Скорую».
– Ни фига не помню! – искренне сказал он. – Коньяк вроде помню, сидел на кухне, пил, перемерз как собака, ушел утром без куртки, а там сквозняки, а потом… не помню… – Он уставился мне в лицо, с силой потер щеки, сминая их. – Бред какой-то. А мама знает?
– Все знают. Мама здесь каждую ночь дежурила. Она, Лена, Рената, Костик и Танечка. Лешка Добродеев привез даже доктора Добрянского…
– Помню! – сказал он живо. – Это сколько же ему натикало, старцу нашему?
– Много. Хочешь поговорить с Леной?
– Нет, – ответил он кратко.
– Она была здесь, я увез ее домой.
Он не ответил. Глаза его поминутно останавливались на двери, и я понял, что он ждет Ренату. Он заметил мой взгляд и произнес:
– Я хотел раньше сказать, но все как-то не выпадало…
Он попытался сделать виноватое лицо, но получилось у него плохо. Я видел, что он торжествует – ему снова удалось вставить мне фитиля. Он снова увел мою женщину и доказал свою состоятельность. Я понял, что он собирается сказать. Я видел его насквозь, я знал его как облупленного. Ничто не в состоянии изменить моего брата, даже возвращение с того света.
– Я знаю.
– Рената сказала? – Он был разочарован.
«Ну, сволочь!» – подумал я почти с восхищением и ответил:
– Нет, сам догадался.
– И… как тебе?
– Нормально. А Лена?
– Ленке я сообщил. Мне наша семейная жизнь – во где! – Он резанул рукой по горлу. – Понимаешь? Не знаю, сколько нам осталось, но то, что мне причитается, я возьму! Жизнь такая… каждый день можно лапти сплести. Идиот, что терпел так долго. Дети, то да се… Дети! У них своя жизнь. Они ради тебя и не почешутся. Надо спешить жить, братуха. А ты правда… ничего? Она что, тебе совсем… никак?
Мое безразличие лишало его интриги. Ему нравилась борьба. Ему нравилось ходить в победителях.
– Почему же? Рената просто чудо, и маме нравится.