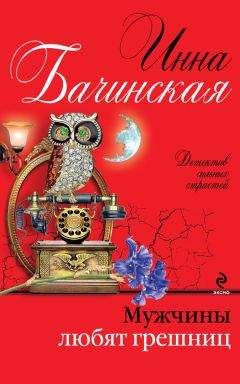Прекрасный летний день, ленивое озеро, разомлевшие на солнце луговые травы. Наш единственный выезд на природу…
В ней сидело детство, из которого она так и не выросла. Я помню, как она рассматривала луговые цветы – сосредоточенно нахмурив брови, закусив губу, и бог знает, что думала при этом. Медуница, тысячелистник, цикорий – она знала все их названия, легко запоминала и удерживала в памяти, что меня удивляло безмерно, ведь я, обладая «математической», способной удержать в голове сотни цифр, был не в состоянии запомнить хоть одно. Она парила над лугом и была как человек, который сюда вернулся. В интерьере воды и зелени Лиска была на месте, она была своей. Я понял это, когда приехал в ее районный городок, прошел по улицам – по краям тротуара росла сорная трава с голубыми цветами, названия которой я не знал; прошел через заросший двор к скрипучему деревянному крыльцу… Ее жизнь здесь была такой же открытой и простой, как трава.
Я смотрел на Лиску, любуясь, и мне пришло в голову, что она испытывает щенячью радость, какую испытывают только в детстве, потому что ребенок связан пуповиной с природой, он еще не человек, а почти животное и живет инстинктами. Он обоняет запахи травы и земли, и ноздри его подрагивают, как ноздри зверька. Он знает, где растет репейник с большими темно-красными цветами-колючками, которыми можно бросаться, и они смешно цепляются за одежду, кислая заячья капуста и сладкие калачики. Знает, как пахнет трава в солнечный день, и как в дождливый… Дождь сродни стихам – он рождает новый мир и новую природу – блестящую благодарную землю и чисто вымытую зелень. Улитки появляются из складок земли, и дождевые черви, раздвинув пирамидки земляных зерен, выползают послушать его радостную барабанную дробь. Ребенок знает все это, а взрослея, забывает. Уходит в новый мир, не оглянувшись. Он уже никогда не будет лежать в траве бесконечным летним днем, наблюдая суету трудяг-муравьев, стремительный бег юрких красных жучков-солдатиков и толстопузую бронзовую жужелицу, неторопливо ползущую по стебельку травы. Память о детских радостях будет тускнеть, тускнеть, пока не уйдет совсем.
Лиска до этого не дожила. Ее детские радости не потускнели, они ушли вместе с ней…
Новый листок. Новые слова. Новый смысл.
«Суть в том, что мир всегда остается непонятн., и наша надежда только в том, чтобы правильно став. вопросы. И так век за веком. А ответов на них мы никог. не получим… Бог мой, да я бы и не хотел дожить до той последней точки, котор. все поставит на место и все раз и навсегда объяснит. Поверьте, друзья, последней черты никогда не будет, она убег. от глаз, как линия горизонта, сколько бы ты ни гнал вперед свою лошадь». Анатолий Королев.
Живи и задавай вопросы, которые все равно останутся без ответа. Потому что их просто нет, ответов. Отсутствие ответов придает остроту жизни и подталкивает воображение. Кто такой Анатолий Королев? Друг? Старший товарищ? Коллега? Знакомый старичок-энциклопедист?
– Это писатель, невежда!
– Не знаю такого. Ну и в чем смысл? Какой смысл в вопросах, на которые нет ответа?
– Ха! Вопрос – это поиск, дерзость, попытка заглянуть за черту, человек не может без вопросов! А то, что нет ответов… Знаешь, не на все вопросы можно ответить. Пока. Понятно?
– А что насчет последней черты? Не понял.
– Нет последней черты! Понимаешь, нет ее! И все. Просто нет.
– Ты думаешь? – поддразнивал я.
– Я знаю! Ее просто нет.
Я задумался. Последняя черта… это что? Конец? Смерть? Забвение?
Лиска сказала, последней черты нет…
Я взял следующий листок – отстукано большими буквами:
«…счастье бывает таким большим и сложным, что слабому к искушению человеку лучше не прикасаться к нему, и рядом может быть другое, совсем прост. и бесхитростное счастье, о котором один древний китайский стихосложитель написал так: счастье – это смотреть, как девочка, спросившая у вас дорогу, уходит вдаль, напевая песню…» Вяч. Костиков.
Я задумался. Кто судья, кто скажет – слаб ты к искушению или нет? А, уважаемый Вячеслав Костиков? Говоришь, если человек слаб, то лучше не прикасаться? Лучше ли? И как удержаться?
А наше счастье? Каким было оно, Лиска? Большим и сложным? Простым и бесхитростным? Или легким и радостным?
Лиска, любовь моя, тоска моя – ты меня любишь?
А про китайского стихосложителя – согласен, хорошо. И про девочку. Я оставил бы только последнюю строчку. Интересное слово – «стихосложитель»… Какое-то несовременное и очень серьезное…
– Ага, мне тоже нравится! Поэты пишут стихи ручкой или гусиным пером, а стихосложители кисточкой! И черной тушью. Вертикально.
– Вертикально! Иди ко мне, чучело мое родное!
– Пусти! Ну, пусти же!
На обороте рекламной листовки что-то о стиральных порошках:
«Игра в слова, игра в бисер. Калейдоскоп. Поворачиваешь – и новый узор… А есть еще дальтоники». Я.
Свои записки ко мне она подписывала размашистым «я».
«Дальтоник» – это о ком? Обо мне? Я невольно улыбнулся – еще и дальтоник!
Новый листок, стихи…
…Она вытащила меня в кино… Нет, не так! Ей удалось вытащить меня в кино! Последний раз я был в кинотеатре на третьем курсе института.
Мы смотрели «Историю любви», после чего она хлюпала носом всю дорогу домой. А дома сказала:
– тебе не кажется, что некоторые союзы обречены заранее? Понимаешь, им не суждено состояться, все против них!
Я ответил осторожно, подумав, что она, возможно, имеет в виду нас:
– Вообще все союзы рано или поздно…
– Почему? – Она смотрела на меня своими круглыми карими глазами, у нее даже рот открылся от любопытства, и я, в который раз уже, подивился ее наивности.
– Трудно сказать. – Я пожал плечами. – Пропадает интерес, должно быть. Но знать заранее? Не согласен. Ничего не известно заранее, поняла? Любые отношения – тайна, новая страница, выигрыш в лотерее… Терра инкогнита. Тем и интересны. И никаких гарантий – не банк, чай.
– А почему кончается любовь? – последовал новый вопрос.
– Не знаю. Спроси у Лешки Добродеева, он тебе изложит в лучшем виде. А человечество в вопросе любви делится на оптимистов и скептиков или все на тех же извечных физиков и лириков.
– Тех, кто верит в любовь, и тех, кто не верит? – догадалась она.
– Нет! Тех, кто считает, что любовь – это химия, феромоны и вообще психоз, и тех, кто считает, что это лирика, поэзия, музыка и живопись… понятно? Первые думают, что это физиология и нужна она исключительно для продолжения рода, а вторые считают, что это крылья. Понятно?
– Понятно, понятно. А ты сам как считаешь?
Я ожидал, что она спросит… Я смотрел на нее, и мне вспомнились вдруг полузабытые строчки какого-то барда: «Я смотрю на тебя, даже больно глазам…» Я смотрел на нее и чувствовал боль в глазах и в душе.
Думаю, это была душа, хотя что такое душа, четкого определения наука пока не дала – память, облачко пара, предчувствие, аура? Я чувствовал боль в душе, а еще благодарность, восторг и немного печаль, наверное, от страха – все мы глубоко внутри до сих пор язычники и боимся потерять, а потому не признаемся даже себе, что счастливы – чтобы не сглазить и не привлечь злые силы. Я не знал, что будет с нами дальше, да и, честное слово, не важно это – она со мной, и это самое главное. Была ли это любовь, наваждение, жалость или психоз – не знаю. Да и какая разница? Я не мог жить без нее и чувствовал это каждой жилкой, а как сие назвать – не суть важно.
Сейчас я думаю, что это были крылья…
– Как я считаю? – потянул я время. – Ну, как тебе сказать… все относительно и не вечно, к сожалению или к счастью. Ты, например, станешь великой актрисой или журналистом-международником, поймешь, что я – скучный зануда, и бросишь меня.
Она окинула меня испытующим взглядом и заявила нахально:
– Если над тобой поработать хорошенько…
Недели три после кино она пела песню из фильма… Тут необходимо заметить, что ни голоса, ни слуха у нее не было, увы. У моего друга Толика Курсо – того, у которого семь такс, – есть дочь девяти лет, она все время поет, такой уж получился жизнерадостный ребенок. И Толик однажды сказал жене, что если Маргарита сию минуту не замолчит, то он пойдет и повесится.
Вокализы Лиски были примерно из той же оперы. Но я не собирался вешаться, наоборот, мне хотелось смеяться. В тот месяц… кажется, это был май, тепло уже стало, я брал работу домой – собирался просчитать проект реорганизации банка, я сидел по уши в бумагах и цифрах, улыбаясь до ушей. А Лиска громко пела в соседней комнате.
Как объяснить?
– Без слов и фраз, к которым слух привык, – выкликала она громко, – Любовь у нас – не то, что у других. И мой рассказ взят не из книг!
…Пусть дни уходят
Безвозвратно,
Все равно
Я каждый день и час,
Что жить мне суждено,
Люблю тебя!..[2]
Ожившие, незабытые строчки до сих пор звучали в ушах…