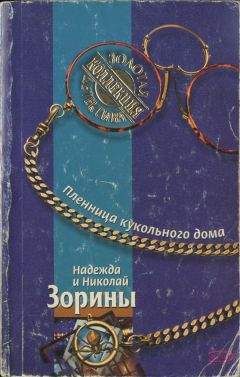— Диночка, успокойся, все прошло, все кончилось, — повторяет он свою бессмысленную фразу.
Как тут можно успокоиться, когда бордюр пуст… когда Юля… когда мои брат…
— Сволочь! Мразь! — рычу я в его разгоряченное лицо и не знаю, что еще можно добавить, что предпринять.
— Пойдем домой, я отведу тебя. Позвоню папе. — Димка поднимает меня, просунув руку под плечи. — Тебе здесь нельзя оставаться.
Я не хочу, чтобы он меня вел, не хочу, чтобы он звонил папе, я ничего не хочу, я жить не хочу!
Но мы идем, спускаемся по железной грохочущей лестнице, Димка вталкивает меня в квартиру, закрывает дверь на два замка.
Я слышу сирену «Скорой помощи». Я слышу звук льющейся воды. Обнаруживаю, что Димки нет рядом — можно бежать, бежать. Но куда бежать, я не знаю. На крышу? Нет, больше там делать нечего, бордюр пуст. Во двор? Нет, больше там делать нечего, Юля не ждет меня.
— Динка!
Мой брат вышел из ванной, взял меня за руку, повел куда-то. Ну да, в ванную и повел. Закрыл дверь на защелку, сорвал с меня платье, посадил в ванну. Вода оказалась невыносимо холодной. Что он делает? Хочет меня утопить?
В уши набралась вода, в нос набралась вода, глаза ослепли… Внутри все содрогнулось от холода и ужаса.
— Вот и все, Динка, все прошло, все кончилось, — говорит он опять свою бессмысленную фразу, вытаскивает меня из ванны, растирает полотенцем. — Успокоилась, да?
Вот что, оказывается, это было: успокоительная процедура, он в холодной воде меня искупал, чтобы пришла в себя. Ну и дурак же он, Димка!
Он надевает на меня большой махровый халат — остался от мамы — и ведет в нашу комнату. Усаживает на кровать, садится рядом, вплотную, обнимает за плечи.
— Это был просто несчастный случай, — тихо, вполголоса говорит Димка и осторожно гладит меня по голове.
— Это было убийство! — громко, во весь голос выкрикиваю я и отбрасываю Димкину руку.
— Нет, это был несчастный случай, — убеждает меня мой брат. — Она испугалась, потеряла равновесие и упала, а я не успел, не смог…
— Ты успел, ты успел, ты успел как раз вовремя! Зачем ты пришел, зачем?
— Тебе нельзя было с ней общаться. — Димка берет меня за руку, держит крепко, чтобы я не вырвалась.
— Тебе нельзя было ее убивать! — Я вырываюсь, пытаюсь убежать из комнаты, он меня догоняет, обхватывает поперек туловища, тащит к кровати.
— Я не убивал, что ты, Динка! Я ведь не…
— Только не надо мне говорить про несчастный случай! Не надо, не надо! «Это был несчастный случай!» «Это был церукал!» — визжу я, как тогда Димка, передразнивая его голос. — Нет, это был не церукал. И это был не несчастный случай.
Димка отступает, глаза его кровоточат болью, руки повисают вдоль туловища, словно ему перебили сухожилия.
— Я не… Это был… Ты ведь знаешь, Динка, ты ведь все знаешь. Зачем ты, зачем? Зачем ты меня так мучаешь? Ты ведь знаешь…
— Да, я знаю! — ору я в его страдающие глаза, мне его ни капельки не жалко. — В том-то и дело, что знаю! Ты не должен был ее трогать, не должен, не должен!
Он тоже делает попытку выбежать из комнаты, как недавно я, но не выбегает, остается, отходит к окну. Стоит там и молчит. Наверное, придумывает новое оправдание. Я тоже молчу. Сижу и молчу.
— Послушай, Динка… — Он наконец поворачивается ко мне. — То, что произошло, все равно, как ни назови, — для нее выход. И для нас с тобой тоже. Юля была обречена всю жизнь мучиться, а тебе нельзя было с ней общаться.
— Она не мучилась, нисколько не мучилась! Она жила, любила играть со мной в мяч, радовалась, когда мы забирались на крышу, обожала конфеты «Райская пенка». Я обещала повезти ее на кладбище!
— Повезешь! — Димка зло усмехается, хочет добавить еще что-то такое же жестокое, но сдерживается, отворачивается к окну и опять замолкает.
Я ложусь на кровать, тоже отворачиваюсь от него к стене. Мне очень больно и плохо. Потому что Димка — мой брат, потому что брат мой — убийца. И Юли нет, и некому будет высказать, не за кем наблюдать из окна. Двор, наш двор, опустел навсегда.
Сквозь щелочку чуть-чуть приоткрытых глаз мне почти ничего не видно — во дворе словно сумерки. Нет, это больше похоже на затмение солнца: скамейка, трава, кусты, асфальтовая дорожка — все расплывчато, подернуто темной дымкой. На дорожке возникает какое-то движение. Велосипед… Так не бывает, так не может быть! Юля… Но ведь двор-то другой, здесь она не может появиться!
Глаза мои невольно раскрываются шире. На велосипеде девочка. Она еще очень плохо катается, движения ее неуверенны и неуклюжи. Вот подскакивает на какой-то неровности, кренится вбок…
Услужливое воображение дорисовывает бейсболку и куртку. Вот сейчас раздастся ужасный грохот, как будто с машины сбросили листовое железо. Лицо велосипедистки будет разбито, рука неестественно выгнута, но она улыбнется и станет улыбаться все время, пока…
Велосипед выровнялся и поехал дальше по дорожке — падения не произошло. Повторения не произошло. Да я ведь знаю эту девочку, она живет в доме напротив. Обыкновенная девочка, кажется, ее зовут Аленка. Я не стану с ней заводить знакомства, пусть себе катается, осваивает технику велосипедовождения. Потому что Димке наше знакомство может не понравиться, и тогда…
Нет, знакомиться с девочкой не опасно, она слишком маленькая, живет под опекой и недремлющей охраной родителей, и значит, как материал для фильма не годится. А Димку теперь интересует только это наше кино. Но все равно лучше не испытывать судьбу.
Материал для фильма! Боже мой, что я говорю, о чем я думаю? Ведь все не так! Нет никакого материала, есть люди, для которых нет другого выхода, кроме смерти. Да-да, Димка так мне и объяснял и продолжает объяснять, и я каждый раз соглашаюсь. Как он это называет? Своего рода эвтаназия. Да, я соглашаюсь и буду соглашаться дальше, потому что Димка — мой брат. И никакой он не убийца, мы снимаем кино, мы просто снимаем кино и никому не причиняем зла.
Закрыть глаза и повторять, повторять, повторять! Мы просто снимаем кино, мы просто снимаем кино, мы просто… А тогда был просто несчастный случай, ведь я в конце концов поверила Димке, не безвольно дала себя убедить, а по-настоящему поверила. Потому что тогда в самом деле был только несчастный случай. И с церукалом, и… потом…
В том-то и дело! Виноват был в маминой смерти вовсе не Димка — то, что в бутылочке из-под церукала оказалось снотворное, — действительно только несчастный случай. А истинный убийца… Он был наказан! Димка убил его за то, что из-за него погибла наша мать. Кровная месть — вот как это называется. И я не осудила его за нее. И даже отец, когда Димка все рассказал, не осудил. Не осудил… только жить с нами вместе больше не смог… потому что…
Потому что никакая это была не кровная месть!
Я забываюсь, я предаю Димку. Надо повторять, повторять, не отлынивать, повторять спасительную фразу о том, что мы просто…
Не помогает фраза! Да, по существу, никогда и не помогала. Самообман она, придуманная мною фраза. Я ведь знаю и помню, что Димка убий… Да, убийца, убийца, убийца, настоящий маньяк! Ему нравится убивать, поэтому мы и снимаем кино.
Все не совсем так. Маму и Юлю он убил не потому. Да и дядю Толю тоже. Они все на разных этапах жизни мешали ему владеть мною безраздельно, представляли угрозу, что я могу от Димки отдалиться. От них он избавлялся, а не убивал для удовольствия. Он тогда и не знал, что от убийства можно получать удовольствие. Удовольствие получать Димка начал гораздо позже, когда подслушал… нет, потом, когда украл… нет, нет, не тогда, а несколько лет спустя.
Мы переживали Юлину смерть долго и мучительно. Димка страдал не меньше меня, только, я думаю, мучился он не от того, что Юлю убил, что совершил убийство, а от того, что меня не смог вернуть — наоборот, я отдалилась от него еще больше, гораздо больше! Я ненавидела Димку, просто физически не могла выносить его рядом. А он как нарочно — да, конечно, нарочно! — постоянно торчал дома. Конную секцию бросил, ни к кому из своих одноклассников не ходил. Когда возникала необходимость пойти в магазин, тащил меня с собой.
Помню, особенно непереносимыми были для меня Димкины прикосновения. Раньше я и не знала, что люди так часто друг с другом соприкасаются. Часто, ужасно часто, оказывается! Особенно если живут бок о бок. А мы с Димкой именно бок о бок и жили. И соприкасались тысячи раз на день. «Дина, ты не могла бы подержать сумку, а то я никак не могу найти ключи», — говорит он и тянет ко мне руку и притрагивается к моей ладони. Я брезгливо отдергиваю ее, беру сумку за дно, чтобы еще раз не столкнуться с его рукой, и все равно сталкиваюсь. «Динка, у тебя пуговица оторвалась, нашел на полу, вот, возьми»… — Я пытаюсь взять ее за самый край, но прикосновения рук избежать не удается. Димка нечаянно наступает мне на ногу, когда утром мы топчемся на одном пятачке, заправляя постели, и мою ногу весь день сводит судорогой омерзения. Мы сталкиваемся спинами, когда одеваемся в прихожей, и меня выворачивает от отвращения. Я живу с убийцей в одной комнате, в одной квартире, мы едим за одним столом, спим на соседних кроватях. Нам приходится разговаривать. От всего этого можно сойти с ума, но я нахожу другой выход: опять, как и тогда, в случае с мамой, позволяю ему себя уговорить, убедить.