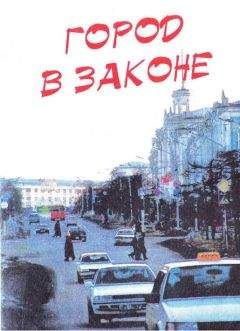— А Василий где?
— Спит. Ждал-ждал тебя, чекушку уговорил и улегся. Он слабый стал, Валер, на водку. Стареет.
Спит и ладно. А то бы сейчас: "Давай разливай! Не хочешь со мной, да, зазнался!" Шум, гром, пьяные пустые разговоры. Сколько помнил Василия, трезвым не видел его ни разу. И иногда думаю — какие же силы потратила Зина, живя с ним, чтобы дом вести, дочек на ноги поставить. Да и мне, в нищей моей юности, чем могла помогала.
— Куда сейчас? — спрашивает сестра. Знает, что в столице я бываю или по делам, или проездом.
— В Чебоксары, там у нас семинар.
— От Павлово это далеко?
— Кажется, нет. Аленка, а ну-ка, дай географический атлас.
По карте выходит километров двести.
— А зачем тебе Павлово?
Сестра задумывается. Потом говорит:
— А ты знаешь, что в Павлово наш дядя живет?
Сказанное не сразу доходит до меня.
— Что еще за дядя?
— Дядя Коля, родной брат матери.
Вот те раз!
— А… почему же я о нем никогда не слышал?
— Да так… Как уехал он в сорок девятом, так и порвалось все.
— А откуда ты знаешь, что он в Павлово? — что-то, кажется мне, недоговаривает сестра.
— Он тете Марусе пишет.
Я молчу, соображаю. День заезда на семинар — понедельник. Сегодня пятница. На дворе осень — с билетами проблем не должно быть.
— Билет я тебе на завтра на пять взяла, — читает мои мысли сестра. Я не удивляюсь, слишком хорошо она меня знает. — До Горького, а там час автобусом.
Признаться, планы у меня на эти дни были другими. Повидать друзей, походить по магазинам — жена заказов надавала.
— Что тебе надо купить в Москве? Ты списочек оставь и деньги.
— Ну, Зин, ну, сестренка, — я растроганно и неловко чмокаю сестру в щеку. — Куда Кулешовой до тебя.
— Это кто еще?
— Да так, телепатка одна.
Утром меня бесцеремонно будит Василий. Сестры уже нет, она поднимается в пять утра — два часа на дорогу. Трамвай, автобус, метро. Я иногда удивляюсь, неужели нельзя работу поближе найти.
— Привыкла, — объясняет сестра, — четверть века на фабрике.
Недавно медалью ее наградили "За трудовую доблесть". Я горжусь, я-то знаю, чего это ей все стоило.
— Ты что, спать сюда приехал?! Давай-давай, поднимайся.
— Василий, еще восьми нет — магазин закрыт.
— Для меня открыт. Эт-та моя Москва!
Приходится вставать. Впрочем, сейчас финансирую его и наверняка полдня не увижу. Вытаскиваю червонец.
— Не надо. Ты пока закусь приготовь.
И исчезает.
Это что-то новое. В прежние приезды Василий стрелял у меня безбожно, да и Зинка держит его в черном теле.
Не проходит и получаса, как Василий возвращается с бутылкой.
— Василий, ты сейчас в каком министерстве работаешь? — выражаю я изумление.
— На хлебовозке.
Все становится ясно. Водку дала продавец ближайшего гастронома, куда он поставляет хлеб, а деньги… деньги тоже от хлеба.
— Понятно, — говорю я Василию. — Грузчики на хлебозаводе дают на три-четыре ящика больше, чем записано в накладной. Ну а в магазине за эти ящики ты получаешь наличными. Так?
— Во, угадал.
— Засыпешься — три года.
— Шиш, — говорит Василий, — Я и с охраной делюсь. Ну чего телишься, наливай. Я в отгуле нынче.
Я разливаю и, дождавшись пока Василий опрокинет свой стакашек, лицемерно вздыхаю:
— Эх, жалко, улетаю я в обед. Сам знаешь, как в самолет — выпивши не пустят.
Раньше бы Василий не отстал от меня — пей и все. А сейчас, похоже, даже доволен — больше достанется. Торопясь и расплескивая, наливает еще.
Я гляжу на его красное опухшее лицо, помутневшие глаза, наполовину уже седые волосы и вспоминаю летний день, когда Зина со своим мужем, с ним то есть, приехала в деревню.
Широкоплечий веселый парень в тельняшке, с лопата- ми-ручищами сразу полюбился мне. Он подарил мне невиданный фонарик-жужжелку, вместе с отцом перекрыл свежей соломой крышу избы, а потом вообще подвиг совершил — опустился в колодец и отремонтировал его. Заодно выбросил оттуда новенькое цинковое ведро, неделю назад упущенное мной. За ведро мне уже влетело, и я пожалел, что Василий не приехал чуть-чуть раньше.
Я даже спать порывался на сеновале вместе с Зинкой и Василием, но сестра, не церемонясь, оттуда меня выперла.
А пил как! Ведрами, и никакой хмель его, казалось, не сокрушит.
Но, как говаривал мой отец, "нет молодца, чтобы одолел винца".
Когда я ухожу, Василий уже дремлет, грузно навалйв- шись на стол. Проспавшись, он опять пойдет в магазин и опять купит вина — и так будет до тех пор, пока не кончатся деньги.
И пока не кончится жизнь…
На материке я езжу только поездами. Люблю сидеть у окна, слушать перестук колес и смотреть, смотреть на тихие поля, зазолотившиеся перелески, на белые церкви, призраками мелькавшие на дальних холмах. Соскучился я по этой земле.
И хотя уже давно не пишу стихи, как-то сами собой начинают складываться строки:
"Мне снятся все чаще и слаще — боюсь даже' веки разнять — поляны с травой настоящей и звонкий сквозной березняк. Я думаю: что за провинность меня завела в эту даль — где радость бедней вполовину и вдвое печальней печаль?.."
Громада Горького, вольно раскинувшегося в долине, поражает меня. Эх, было бы время — побродить, посмотреть.
Надо торопиться. Вперед — к дяде Коле. Кто он, этот неожиданно объявившийся родственник?.. Что он расскажет мне о моей матери, слишком рано ушедшей из этой жизни, о моем детстве? Подгоняемый нетерпением, от Горького я беру такси. Смешно, но это удовольствие обходится мне почти вдвое дешевле, чем от Домодедово до Москвы.
— Переулок Кирпичный, дом семь, не подскажете? — обращаюсь я к седоголовому грузному, рослому мужчине лет под шестьдесят. Присев на корточки, он докрашивал дверь гаража, и мои слова заставили его распрямиться.
— А кто вам нужен?
— Николай Федорович Щедрин.
Какое-то мгновение, охваченный догадкой, я вглядываюсь в его спокойное усталое лицо и…
— Валерка, что ли, — неверяще выдыхает дядя.
И крепко обхватывает меня.
Как, как мы смогли угадать друг друга! Ну я-то ладно — ехал к нему, ждал этой встречи. А он?!
— Я гляжу-гляжу, — после улегшейся суматохи в который раз рассказывает дядя Коля, — что-то знакомое в лице. Ну прям Нюра-покойница. И сердце, сердце как током — племяш.
И опять счастливо обнимает меня. И в этой искренности, открытости я опять угадываю наше родовое, и мне становится легко, будто попал я в свою семью. Родня.
Жена его, тетя Тина, вовсю хлопочет, собирая на стол. Пошептавшись с ней, дядя Коля поднимается:
— Я сейчас, на минуточку.
Идем вместе. Не могу я отпустить его — столько вопросов! И просто — хочу на него смотреть.
В магазине расплачиваться я ему не позволяю. По обстановке дома, по одежде понял: не густо живут. Знаю я эти стариковские пенсии.
— Ну смотри, — смиряется дядя Коля, и что-то гаснет в его лице.
И хотя по магаданскому времени уже утро, сна у меня ни в одном глазу. И долго, как на исповеди, рассказываю о своей жизни. Ни с кем, даже с сестрой, не говорил так никогда.
А дядя Коля спрашивает и спрашивает, как будто всю жизнь мою до самой мелочи хочет понять и узнать.
— Дядя Коля, — осторожно начинаю я о самом главном, — а как же так получилось, что мы только сейчас встретились?
Лучше бы я не спрашивал.
… Листок, вырванный из ученической тетради, мелко исписан химическим карандашом. Отдельные буквы расплылись, стерлись. Это письмо моей матери, незадолго до ее смерти:
"Жизнь наша не дюже веселая, Коля. Я уже третий месяц не встаю, и кружку воды некому подать. Видно, уже не встретимся. И Валерий мой без меня тоже не жилец. Боже, и зачем я его только рожала".
Потрясенный, я поднимаю глаза на дядю Колю. Ничего, ни одной мелочи не осталось мне от мамы, и вдруг это письмо… как с того света.
— Я тогда сразу собрался и поехал к вам. Нюру уже похоронили. Что творилось у вас дома — не расскажешь. Вас четверо — мал мала меньше. Голодные, грязные… Тебе чуть больше года было…
— Четверо? — вопросительно смотрю я на него. — У меня две сестры.
— Была еще Мира — года на три старше тебя. Она в тот же год умерла. Ошиблась Нюра. Не выдержал я тогда, — продолжает он, — обидел Мишу, убийцей прилюдно назвал. И уехал. И с тех пор все. Потом-то я понял, что не прав был. Не прав. Вас вытягивал отец, сутками на работе пропадал. А сам-то инвалид. Какой уж тут уход за больной.
Мы бы, наверное, помирились, да тут еще удар. У нас- то с Тиной к тому времени уже четверо ребятишек было. А в день на всех иногда стакан жмыха да лепешки из мякины с корой. Про одежонку, обувку — и не говори. Из голенищ своих сапог придумал я им сшить тапочки — на все времена года. И вот, помню, сижу, шью, а сосед заходит, посмотрел и спрашивает: