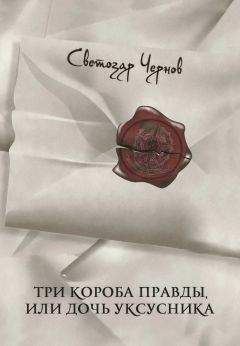— Что же это, никак саблей вам шубу-то прорубили? — сказал Лукич, поднявшийся наверх, чтобы помочь важным господам снять верхнюю одежду и доложить о сегодняшних наблюдениях. — Али топором? Вон, кровищи-то сколько за подкладку натекло.
— Не такая большая ценность — жизнь его превосходительства по сравнению с августейшей жизнью нашего Государя, — сказал, обидевшись, Артемий Иванович. Все жалели поляка, а его, живого героя, словно не замечали! А кухмистер даже поморщился, забирая из рук будущего зятя покалеченный судок!
— Проходите же скорее к столу, уж все готово! — суетливо сказала Агриппина Ивановна.
— Водочки откушать? Или вам по болезненности нельзя?
— Можно, — сказал поляк.
— До завтрева нам генерал Черевин велел персонально от вас за домом понаблюдать.
— Через что же это вы, Артемий Иванович, солидности мужской на лице лишились? — со скрытой издевкой спросила Василиса. — Раньше-то вы положительней были…
— Молчи, дура! — окрысился на дочь кухмистер. — Не встревай, коли Бог ума не дал. Вот его превосходительству бакенбарды даже больше бороды идут, вылитый император австрийский!
— А что у нас в доме напротив? — перевел разговор поляк.
— Крутились около балашовского дома плотников двое подозрительных, — за дочерей ответил кухмистер. — Я к кухарке ходил, прописать ей ижицы малую толику, — копыто свиное без спросу стащила, анафема, — и встретил одного спускающимся с чердака. Инструмент у него ржавый в ящике, так что никакой он и не плотник.
— А второй дворника отвлекал в это время! — встряла Глафира.
— Известное дело, — подал из прихожей голос Лукич. — Один отвлекает, а второй в это время по чердакам шарит. Мазурики! Я этого второго уж видал разок прежде, он в ту субботу целый день у Балашихи в доме пробыл. А этот, который в дом пошел, так из него и не вышел. Где-то сидит. Должно быть, ночи дожидается. Чего украдет, а утром его подельник опять дворника отвлечет — вот он с краденым и смоется.
— А у сапожника на чердаке опять нечисть выла, — доложила Василиса.
— Черт с нею, с нечистью. Надо бы этого плотника поймать. — Поляк встал, поморщившись от боли в спине, и кивнул Артемию Ивановичу. — Пошли.
Они ушли, но очень скоро вернулись.
— Уехал уже ваш плотник, — сказал поляк. — На нашем извощике. Пока вы тут в прихожей нас встречали. Пожалуй, надо выпить!
— Что ж только выпить? — забеспокоилась Агриппина Ивановна. — У нас и закуска готова! А какое жаркое у Петра Емельяновича получилось!
— Опишите-ка нам этих плотников, — сказал Фаберовский, когда они плотно пообедали и изрядно выпили.
— Они промеж себя похожие, — сказала Агриппина Ивановна, с умилением глядя на своего будущего зятя, отставившего в сторону тарелку с обглоданными костями и вытиравшего жирные пальцы о салфетку.
— Точно так, — согласился кухмистер и тоже взглянул на Артемия Ивановича. — Как пара рябчиков.
— Хоть одного тогда опишите, — попросил поляк.
— Брюнет, — сказала Василиса. — Но неинтересный. И борода дикая.
— Понятно, — удовлетворенно рыгнул Артемий Иванович. — А вы что скажете, папаша?
— Чернявый — это точно. А мордой, точно, осетр. Но не то, чтобы белуга, а стерлядкой, скорее, только с бородой.
— Стерлядка с бородой — это же Пушкин, только наголо бритый! — воскликнул Артемий Иванович. — Агриппина Ивановна, несите-ка нам стерлядку, портрет будем делать. Да водочки побольше, в графинчике уже кончилась. А что ж вы, папаша, портрет свой не закажете?
Артемий Иванович откинулся на спинку дивана и оглядел стены, на которых были одни фотографии и ни единого портрета. Принятая пища давила на грудобрюшную преграду, словно говорила: я здесь пока полежу, доколь внизу место не освободится.
— Да дорого выходит, дорогой Артемий Иванович. Обратился я было к Бруням, так они такую цену заломили — впору самому за кисть браться!
— А хотите, папаша, я лично ваш портрет напишу? А что, я могу! Моей работы портреты Государя даже в Якутске известны!
— Пан Артемий! — забеспокоился Фаберовский, видя, как шлея медленно сползает под хвост Артемию Ивановичу.
— А что? — приосанился тот. — И генерала Черевина я портрет напишу! Мы его вообще на свадьбу пригласим!
— Вы, папаша, только приглашение ему солидное изготовьте, — сказал Фаберовский кухмистеру.
— На ловца и зверь бежит! — Петр Емельянович вскочил, подбежал к бюро и суетливо стал рыться в его ящиках. — Погодите, погодите, — бормотал он. — У меня на такой случай особые приглашения отпечатаны…
— Да чего вы там роетесь, как в сору, — прикрикнул на него поляк. — Несите все сюда.
Смущаясь и краснея, кухмистер выложил перед Фаберовским тонкую стопочку приглашений, отпечатанных на муаровой с золотым обрезом бумаге и золотыми же буквами.
— Ваше превосходительство, имеем честь… — прочитал начало поляк.
— Это приглашение — вам, — угодливо согнулся кухмистер. — А следующее — как раз генералу Черевину сойдет.
— А это что за «Ваше сиятельство»?
— Изволите видеть, это я… Я же думал: а вдруг вы соблаговолите какого-нибудь приятеля своего пригласить…
— Папаша, сей же час несите холст! — объявил Артемий Иванович. — И стерлядку с бородой. А если не хотите ваш портрет — я буду с мамаши голой античную Афродиту в раковине рисовать.
— Да что же вы такое говорите, Артемий Иванович, — зарделась хозяйка. — Срамно как-то, да мне уже не по годам… С жены своей нарисуете, когда в баню пойдете.
— И холста у нас нету-с, — льстиво улыбаясь, заюлил кухмистер.
— Пан Артемий, пойдем до улицы, проветришься, — одернул Артемия Ивановича поляк. — Заодно и приглашение генералу Черевину доставим.
— Ты думаешь, я пьян? — шмыгнул носом Артемий Иванович и вытер его о плечо хозяйки. — Я, брат Степан, в Академию Художеств вступить намерен! Подам прошение Его Высочеству. А чего не пойти? Академик живописи — третьего класса чин, тайный советник, 6 тысяч в год и квартира с дровами при Академии…
— Пальто пану Артемию! — требовательно крикнул Фаберовский.
— Только вы уж упросите генерала к нам на свадьбу, сделайте милость, — попросил кухмистер. — Генералы — народ занятый, важный. А уж так хотелось бы…
— Упросим, — пообещал поляк. — Вы бы только нам портвейну для этого одолжили пару бутылок, уж очень до него генерал охоч…
Как не было Петру Емельяновичу жаль дорогого портвейна, ради присутствия генерала Черевина на свадьбе он был готов и не на такое.
— Зря ты так, Степан, — сказал Артемий Иванович, когда они вышли из квартиры на лестницу. — Из меня вышел бы великий художник, если бы я не был столь предан Государю и не клал свой живот ежедневно на его алтарь.
Артемий Иванович брюхом своротил цветочный горшок, стоявший в нише на лестнице, и тот разлетелся на куски.
— Вот так всегда бывает, — сказал Артемий Иванович. — Стоишь в сторонке, цветешь на радость людям, несешь в их зачерствелые сердца аромат духовности, а тебя раз — брюхом, и растопчут.
Он наступил на черепок и тот хрустнул под его галошей. Артемий Иванович поднял ногу, озадаченно осмотрел ее, и пошел вниз, держась за стенку.
— Я вот что, Степан, думаю. Нас, цветков, надо охранять. От всяких брюх. Ты не смейся! Я вот что решил, Степан. Брошу я тебя к едреной матери. С твоими женами, тещами и дитями. Довольно я на тебя ишачил, захребетник! Женюсь и пойду в художники. Я Его Высочество великого князя Владимира Александровича как облупленного знаю. Я ему на свадьбу в семьдесят четвертом адрес писал. Он меня враз в Академию пропишет, стоит только напомнить. Я ему так и скажу: «Ваше Высочество! Главное в наше время, когда втаптываются в грязь…» — Артемий Иванович оглянулся на растоптанный горшок. — «Когда втаптываются в грязь священные для любого русского человека понятия самодержавия, православия и народности, а основы потрясаются до самых устоев!» — Артемий Иванович схватился за перила и потряс их. — «В это время все усилия наши должны быть направлены на пристойное кормление, унавоживание и возлияние охранительных тенденций в живописи и искусстве. Я лично готов послужить примером в этих возлияниях и возглавить особую «Батально-охранительную мастерскую», существование которой давно назрело и перезрело…»
— Эк пана Артемия развезло, — крякнул Фаберовский.
— Это ж когда мне везло? Что ты чушь то городишь? Никогда мне не везло. Верно, Лукич?
— Точно так, ваше благородие!
— Кстати, Лукич, как плотник-то выглядел? — спросил поляк.
— Мастью — измайловец, а по росту — второй роты правофланговый.
— Прощай, благородный старик. Один ты в этом мире открываешь мне двери надежды… — Артемий Иванович облобызал швейцара и вывалил на улицу, потеряв галошу.