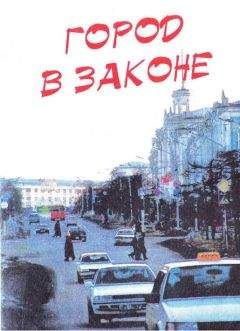Мои сверстники приобретали магнитофоны, кутили в ресторанах, ездили на юг — я покупал мотоциклы и запчасти.
…Утреннее шоссе просыпалось. С легким щелком пролетали мимо "легковушки", ухали, направляясь в карьер, самосвалы, важно прошелестел автобус.
У развилки дежурил мой старый знакомый сержант
Пантелей. И сбавил скорость. Не потому, что боялся его — уважал. Как-то, пару раз меня оштрафовав и не добившись воспитательного эффекта, он разложил передо мной карту города и предложил:
— Слушай, давай как мужик с мужиком.
— Давай, — весело согласился я.
— Ты на Мясникова сколько шел?
— Без протокола?
— Ну…
— Минимум восемьдесят.
— Отсюда выскакивает малыш. Тут садик, он в дырку — и бегом.
Я пожал плечами. Ушел влево, вот и весь маневр. Для мастера спорта семечки.
— А если встречный?
— Три венка.
— Почему три?
— От работы, от соседей и от тебя.
— Я тебе дураку веник не брошу! А если и отсюда одновременно ребенок?
— Как это?
— Ну так. Друг другу навстречу. Что — не может быть?
Я задумался, представил ситуацию и признал:
— Сложно.
На Мясникова я больше не нарушал, сдерживался.
А когда однажды вслед за курицей с реактивной скоростью вылетела на совершенно пустынную улицу женщина и, обходя ее, мотоцикл мой промчался по плетню, по огороду, я вообще перестал гонять. Только в исключительных случаях.
Я приручал машину, а она, похоже, меня.
— Привет! — издали поздоровался со мной Пантелей, подняв руку. Его цвета яичного желтка "Урал" выглядывал, замаскированный травой, из кювета. Уловка для чужаков: Пантелей на этом месте дежурит уже лет десять.
Я тоже поднял левую руку и, управляя одной, лихо развернулся так, что щебень у обочины — заехал-таки — брызнул веером. И пошел, набирая ход. В зеркало заметил, как выкатился на полотно "Урал". Это была наша обычная утренняя разминка. Почуяв свободу, зверь подо мной зарычал и кинулся вперед, глотая дорогу.
— Послушай, Люд, — сказал я однажды жене, — а ведь если бы не мотоцикл, мы бы и не встретились. Помнишь…
Я возвращался в Поныри вечером. И встретил у поселка стайку девчат, видно, с электрички.
— Кого подвезти? — лихо крутнувшись на место, предложил я.
— Меня, меня, — наперебой загалдели они.
Самая смелая уже уселась сзади, и я поддал газу. Подбросил пассажирку до ближайшего села и вернулся за следующей.
Последняя — небольшого росточка, белые волосы до плеч, в руках тяжелый портфель — отказалась.
— Спасибо, я дойду.
— Тут волка видели, — припугнул я.
— Мне далеко… В Брусовое.
— Довезу и далеко, мне все равно обкатывать мотоцикл, так что соглашайтесь.
Двадцать километров мы пролетели одним махом. Но, наверное, в первый раз это меня не обрадовало… хотелось ехать и ехать, чтобы ты, пугливо бойкая на ухабах, крепко обнимала меня.
Я мчался назад, беспричинная радость пела в душе, и даже то, что, страшно сверкнув глазами в свете фары, шарахнулась с дороги большая серая собака, обрадовало — выходит, не соврал насчет волка.
Потом мы встретились на каком-то семинаре, и я стал ездить в твое Брусовое каждый вечер. И если тебя не было в школе, разыскивал в клубе, в домах учеников, и мы возвращались в твою маленькую тесную комнатку, где пахло свежей побелкой, мятой и полевыми цветами.
Боже, как я тебя любил!
Это уж потом узнал, что любил тебя не я один…
Я смотрел вперед и ничего не видел под носом.
А когда увидел — было слишком поздно.
— Если бы и знала, — плакала ты. И тут же страстно клялась: — Нет, для меня был только ты, только с тобой…
Все это выяснилось, когда мы из-за идиота-педиатра едва не потеряли сына. И общая боль, а потом и радость соединили нас — не разорвать.
Места для маневра не оставалось.
И ничего не остается — как только клясть судьбу за то, что не свела нас раньше.
Кто виноват… Я поворачиваю на себя ручку газа.
Шоссе вздрагивает и ныряет под колесо…
Однажды жена подсунула мне газету. Под заголовком "ГАИ предупреждает" курсивом было напечатано:
"В последние месяцы на дорогах района участились случаи дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом. Так, шестого марта на участке Поныри — Курск водитель мотоцикла превысил скорость, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате столкновения с такси мотоциклист пронзил лобовое стекло, пролетел через салон такси и, выбив зад-нее стекло, упал на багажник бездыханным. Пассажиры не пострадали".
— Ну и что, — сказал я, — Пассажиры-то не пострадали.
— Дурак, — кратко заключила жена.
…А вот и моя старая знакомая — молоковозка. Какой-то белый туман едва уловимым шлейфом мелькнул за ней.
На подъеме легко обхожу автобус. За стеклами машут ручонками дети. Наверное, едут в пионерлагерь.
И вдруг — огромное белое пятно на все шоссе. Не лужа — целое море!
Будто по льду, боком понесло мотоцикл. Тормозить нельзя — всем корпусом, отчаянными движениями руля стараюсь удержаться, не грохнуться здесь, на виду у автобуса: испугаю детей… что от меня останется на такой-то скорости?!
Навстречу — черти тебя несут! — выныривают "Жигули". Это все. Не верю! Пронзаю такси… Обещал младшему в кино. Газ!!! Руль на себя!
Нечеловеческим усилием поднимаю переднее колесо и чувствую, как зверь подо мною отрывается от земли… превращается на миг в птицу. Легкий щелк заднего колеса по крыше "жигуленка", и я — невероятно! — приземляюсь на обе точки.
…Я сижу на обочине. Мотоцикл на боку. От него валит пар, как от заморенной лошади. Останавливается автобус. Возвращаются "Жигули". Водитель, маленький, в красной тенниске, с раззявленным от крика ртом, подбегает ко мне, зачем-то хватает за грудки и неумело тычет кулаком в лицо. Наверное, он подонок — нельзя бить в такую минуту. Но он первый человек мира, в который я вновь вернулся. Я не хочу о нем — первом — думать плохо. Я растроганно смотрю ему в глаза, и он опускает руки.
Высыпали из автобуса дети, и один, самый смелый, чем-то смахивающий на моего Ивана, с уважением спрашивает:
— Вы циркач, дядя?
Я мотаю головой. Да, я циркач. Я всю жизнь циркач, клоун, шут! Я выдумал себе страх и тешил его, тешился им. Два колеса, цепь и мотор — это же до какого идиотизма надо докатиться, чтобы всю жизнь — не мою, хрена ли моя жизнь! — на них поставить!
— Успокойся! — Рука Пантелея лежит на моем плече. — Все нормально.
Мир начинает приобретать резкость. Я с усилием разжимаю губы:
— Там… молоко.
Сержант коротко кивает. Понял, мол, приму меры.
« Тогда я поднимаюсь, так же, как моя жена час назад, пинаю мотоцикл и иду в город.
Я иду домой, не знаю к какой, но другой жизни. Но — мама моя! — как же тяжела и бесконечна эта моя дорога.
Такая беспечальная у Савелия жизнь — самому не верится, не сон ли? Хорошо еще, что покойный дед Прокофий научил явь ото сна отделять. Очень даже просто: нажми кончиком пальца на глазное яблоко и все предметы и люди вокруг, если они взаправду, двоятся.
— А сновидения, — внушал Прокофий внуку, — они у нут- рях человека гнездятся и никакого касательства к глазам, хучь ты их выколи, не имеют. Вот глянь ты, глянь на меня, ну, каково?
Савелий нажимал, глядел и убеждался. Два деда Про- кофия четырьмя руками вертели две самокрутки и пара синих дымков — столбиком подпирали крышу сарая.
— А чевой-то не ешь? — Спохватывался дед Прокофий за ужином, заметив, как прижав грязную ладошку к глазам, уставился внук на невеличкую горбушку хлеба, хрустально посверкивающую крупицами соли. И хохотал до слез, до надсадного кашля, разгадав нехитрую уловку малого.
Прокашлявшись, говорил ласково:
— Потерпи трошки, Савушка. Зиме скоро капут, солнышко, вишь, как играет. Овощ всякий, травка из земли попрет, рыбачить будем. А там и вообще жизнь наладится… Отец с госпиталя придет, тебя в школу отдадим — двухэтажную, окна — во, как в Панино.
— Нет ее в Панино, — остужал внук деда. — Немцы сожгли, забыл, что ли.
— Построим, — божился дед. — Еще лучшей сделаем, чем была.
— Да мне, — расходился он, — пяток мужиков и через месяц под крышу поставим.
Что правда, то правда. По всей округе знали столяра- краснодеревщика деда Прокофия. До войны редко какая изба не красовалась фигурными наличниками, да резными крылечками, в хату войдешь — шкафчики, столы да тумбочки хоть на выставку. Очередь была к нему не меньше, пожалуй, чем сейчас в зубопротезный.
Но главной своей славы достиг дед Прокофий все-таки через балалайку.
Кажись, хитрый ли инструмент. Фанерный коробок, да гриф — тонкий и долгий, как лебединая шея с тремя тугими струнами. Но до того ладны и певучи были балалайки Прокофия, что из далеких сел приезжали за ними. Птицами выпорхнув из рук мастера, пели его балалайки на свадьбах и вечеринках, а то и на праздничных торжественных концертах.