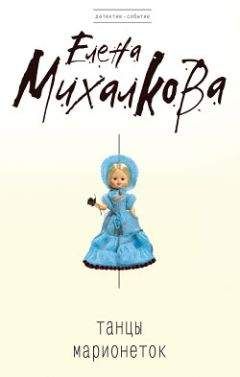– Откуда вы знаете?! Нет, вы не можете знать!
Она вдруг рассердилась, как будто он покусился на что-то очень важное, – после Василий подумал, что, возможно, так оно и оказалось. Ей легче было считать произошедшее с нею случайностью, а не результатом чьей-то злой воли.
– Могу.
– Не можете! Вас там не было!
Морщинистое лицо покраснело, и он испугался за нее.
– Хорошо, хорошо, меня там не было, вы совершенно правы, – скороговоркой сказал Ковригин. – Вы только не волнуйтесь! Я никому не собираюсь ни о чем говорить!
Она успокоилась, но не до конца:
– Вы же понимаете, что не могло быть мотива? Мы работали вместе много лет, не дружили, но были в хороших отношениях!
Ковригин кивал, слушая, как она убеждает саму себя, и думал, что банальное наблюдение в который раз оказалось верным: действительность страшнее выдумки.
Теперь ему предстояло объяснить это Елене Дубровиной.
Лена прокручивала интервью в третий раз. В этом не было необходимости, но ей хотелось снова послушать некоторые фразы Конецкой. «Невероятная все-таки старуха, – думала она с восхищением, – злая, как собака, но до чего интересная!»
Текст был практически готов, и он получился таким, как нужно. Она могла быть довольна своей работой.
– Я довольна своей работой, – вслух сказала она, постаравшись, чтобы это прозвучало с энтузиазмом. Но собственный голос показался ей неуверенным и унылым. Чувство удовлетворения исчезло, сменившись усталостью и желанием спать. Она все время хотела спать, и никакой кофе не делал ее бодрее.
«Я теряю остроту ощущений». Даже эта мысль, которая, придя в первый раз полгода назад, вызвала у нее приступ ужаса, сейчас не оставила после себя ничего, кроме глухой тоски. Лена горько усмехнулась – это только подтверждало ее опасения. Она разучилась радоваться своим победам, пусть даже маленьким, разучилась радоваться хорошо написанным текстам и людям, своим героям. Бывшая манекенщица ненадолго втянула ее в орбиту своей полнокровной жизни, но затем Лену выкинуло наружу, и теперь она болталась сама по себе, как грязный пакет, едва надуваемый слабым ветром. Старый, дырявый, никому не нужный.
– Я – преждевременная старуха.
Тридцать пять лет, половина жизни прожита, и все лучшее осталось в той половине. Ничего из этого лучшего не повторится. Не будет Португалии, мороженого, падающего из трубочки белой кляксой на горячий асфальт и тут же растекающегося по нему, не будет утреннего забвения в мужских руках, прижимающих к себе так, что не вздохнуть, не пошевелиться. Не будет написанных книг. Ни одной больше не будет. И все ее герои – маленькие человечки, которых она так любила, разошлись по своим историям, да так в них и остались – даже те, кому она уготовила другую судьбу. Она собиралась придумать невероятные приключения – и с Лизой Шемякиной, и с мальчиком Петькой, и с Иваном Трофимовичем, и с Эльзой… Теперь не придумает. Ни одной истории больше. Ни одного приключения. Скачки, корабли, балы, бури, побеги, перевороты, любовь, страдания – все то, что она уже сочинила и собиралась описать, изгладится из памяти окончательно спустя каких-нибудь десять лет, когда забудется даже то, что когда-то она была писательницей.
«Надо только протянуть эти десять лет, вот что», – сказала себе Елена Дубровина.
Она оттянула уголки глаз вниз, взглянула на себя в зеркало. Грустный Белый клоун. Белый – потому что бледный: даже белил ему не нужно.
Отвернулась, подняла уголки вверх, растянула губы в улыбке, наморщила нос. Ну-ка, где веселый клоун? Где туповатый жизнерадостный шутник, вечно гогочущий над тем, грустным, падающим на банановой кожуре? Она быстро повернулась к зеркалу.
Из него смотрел все тот же Белый клоун. Только зубы оскалены, и в глазах стоят слезы.
Иногда мне кажется, что в голове у меня растет белый шар, утыканный острыми шипами. По вечерам он начинает раздуваться и колет мою бедную голову изнутри. Мне больно. Шар раздувается, когда она рядом и говорит, говорит, говорит своим хрипловатым, простуженным голосом… В такие минуты я ненавижу ее – старую, отвратительную, дурно пахнущую старуху. Я чувствую, как от нее воняет. Сколько бы она ни мылась – а она до отвращения чистоплотна, – от нее все равно разит этим запахом старости, который яснее, чем что бы то ни было другое, говорит о том, что скоро она умрет, и кишки ее сгниют, а вместе с кишками и все остальное.
И от второй воняет тоже. Люди пахнут, и это невозможно вытерпеть. Хочется, чтобы она поскорее умерла – тогда вся ее вонь уйдет в землю и останется там. А здесь можно будет дышать свободно.
Она невероятно раздражает меня. Раньше такого не было. Раньше я считала, что ее убьет кто-то другой, и поэтому относилась к ней снисходительно. Теперь я знаю, что этого не случится, и оттого заранее ненавижу ее – за то, что мне придется сделать это самой. Я еще никогда никого не убивала.
Интересно, каково это?
Я перестала себя обманывать. Мне хочется ее смерти не потому, что после этого меня ждет безбедная жизнь. Прежде я убеждала себя в том, что это так, но белый шар в моей голове начинал колоться, потому что ему не нравится ложь. Я лгала самой себе. Я хочу ее смерти, чтобы перед последним мгновением своей жизни она взглянула мне в глаза и увидела, кто ее убивает. Чтобы ее самонадеянность, убежденность в том, что она осчастливила меня, лопнули – так же, как ее голова несколькими секундами позже. Пусть она осознает, насколько ошибалась.
Ей нравится управлять чужими жизнями. Но нет ничего смешнее, чем кукловод, дергающийся при каждом рывке нитки, привязанной к его суставам. Она слишком сильно дергала меня, и ниточки в конце концов лопнули. Марионетка, вышедшая из повиновения, – как вам такая картина?
И разве можно осуждать ее за то, что она захочет хотя бы несколько минут полностью управлять жизнью той, которая так опрометчиво натянула нитки?
Кто бы знал, как мне надоело притворяться!
Кристина видела, что творится с мужем, и от испуга постепенно переходила к отчаянию. Как же так?! Она стольким пожертвовала ради него! С его молчаливого одобрения почти порвала отношения с матерью, бросила работу (хотя ей и самой хотелось это сделать), посвятила всю себя Роману… И это для того, чтобы увидеть, как в его глазах загораются знакомые ей огоньки, когда он смотрит на неоконченный портрет девчонки с ландышами?! Будь проклят тот вечер, когда она решила заключить пари с Конецкой! Это то же самое, что заключить сделку с дьяволом, – заранее ясно, кто останется в выигрыше. Почему такое сравнение не пришло ей в голову раньше?
Ей катастрофически не хватало рядом человека, с которым она могла бы посоветоваться. Подруги, приятельницы, мать – когда она вышла замуж, все они отступили на задний план, а затем и вовсе исчезли из ее поля зрения. Оставалось размытое воспоминание, как бледная тень с краю картины… Сказать по правде, она была уверена, что больше никогда не будет в них нуждаться.
И вот теперь такая беда… Кристина ощущала себя беспомощной, как ребенок. Что делать? К кому бежать? Может быть, поговорить с этой девчонкой? Бессовестная кукла, у которой на лбу написано, как хочется ей отобрать чужое! Но Кристина твердо знала о себе, что, окажись она в такой же ситуации на месте куклы, держалась бы за свой шанс руками и ногами. Что руками! Вцепилась бы в него зубами и не выпустила бы. Значит, и кукла не выпустит.
Скандалы с мужем могли лишь ухудшить положение. Роман упорно делал вид, что не понимает ее намеков, а говорить прямым текстом Кристина панически боялась: а вдруг он признается, что все ее предположения – правда?! Что ей тогда делать?!
Господи, как вдруг захотелось, чтобы кто-то пожалел ее, выслушал, сказал, что все наладится! Она была настолько растеряна, что всерьез подумывала, не пойти ли ей за советом к старухе Конецкой, но вовремя опомнилась. Один раз заключив сделку с чертом и потерпев убытки, глупо надеяться, что вторая закончится иначе.
Всхлипнув, Кристина отыскала в записной книжке телефонный номер квартиры Марты и позвонила, молясь, чтобы мать взяла трубку.
Шарк-топ-шарк-топ-шарк-топ-шарк-топ. Тапочки шваркают по паркету, сообщая всем в квартире, что по коридору движется, хромая, грузная пожилая женщина – по всей видимости, одна. Значит, мерзавка Лия снова отпросилась у добросердечной Вали по своим делам.
Конецкая гневно раздула ноздри, повернула голову в сторону двери. Та приоткрылась, будто бы под воздействием ее взгляда, и Валентина вошла в гостиную. По лбу струился пот, волосы у корней стали мокрыми. «И все равно в рубашке, надетой на теплую майку. Господи, что за деревенская привычка одеваться капустой!»
– Духота! – выдохнула Мурашова, рухнув в кресло и вытирая капли пота рукавом рубашки. – Летом мы просто сваримся.
– Летом мы будем одеваться по погоде, а не как демонстрационный манекен из палатки черкизовского рынка. Что-то случилось? Как ты себя чувствуешь?