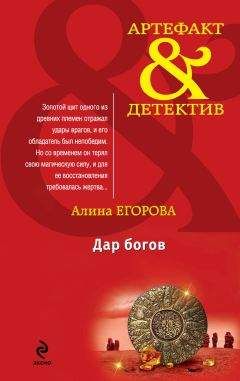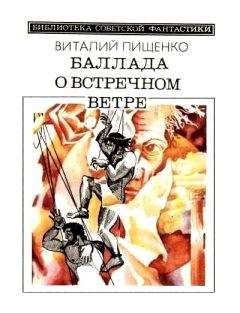– Всё, мам, пока. Потом позвоню! – попрощалась Марина.
– Ладненько тогда, давай. Ага. Пока! – скороговоркой произнесла Варвара Степановна набор телефонных слов-паразитов. И напоследок – отчаянное: – Береги себя, доченька!
Мама как будто предчувствовала беду. Казалось бы, ее ничто не предвещало: со своими обязанностями Марина справлялась, ребенок к ней привязался, никаких эксцессов не происходило. До поры до времени. В какой-то момент девушка стала ловить на себе нескромные взгляды отца Кирюши. Игорь Борисович, успешный предприниматель, большую часть времени отсутствовал, а когда приезжал домой, быстро ел и шел спать. То ли в его бизнесе наступила пауза, то ли случилось еще что-то, но он стал чаще бывать дома, и иногда – во время отсутствия супруги. Он был еще мужчиной в соку, хоть и старше своей тридцатишестилетней жены на десяток лет.
Теперь-то Марина поняла, отчего хозяйка дома установила для няни возрастной ценз – из-за мужа-бабника.
Игорь Борисович вился вокруг нее ужом. Подходил и так и эдак, то с подарками – с дорогой косметикой, какой Марина сроду не видела, то осыпал ее комплиментами, а то переходил к угрозам: «Лучше не дури, соглашайся полюбовно, иначе окажешься на улице!» Марина взбрыкнула. Когда бизнесмен распустил руки, она с размаху огрела его попавшейся под руку вазой. Ваза оказалась крепкой – «молоченое» серебро даже не помялось, чего нельзя было сказать о лысой макушке хозяина дома. Макушка тоже выдержала, если не считать мелочи вроде образовавшейся на ней огромной лиловой шишки.
Игорь Борисович орал, как иерихонская труба, смачно матерясь на весь дом. Очень не вовремя явилась его супруга. Она безошибочно оценила обстановку, рявкнула Марине короткое «Выйди!» и, когда за гувернанткой закрылась дверь, орать начала сама. Результатом сей семейной баталии явился досрочный расчет и увольнение Марины.
Девушка вновь оказалась на улице. Огромный город, где столько домов, а остановиться негде! Пока еще она умытая, в чистой, выглаженной одежде, сыта и спать ей не хочется. Но это – только пока. Ужасно ведь неприятно из-за чувства уязвимости и неопределенности, которые тебя охватывают, когда стоишь одна на улице, с дорожной сумкой, и никуда тебе не нужно идти, потому что идти – некуда. Марина побрела в сторону ближайшей набережной, коих в этом городе тьма-тьмущая. Идти ей пришлось недолго, и уже минут через десять неторопливой ходьбы девушка стояла у гранитного ограждения Черной речки. Марина заглянула в темную муть воды, вполне оправдывавшую свое название. «Вот и хорошо», – подумала она. Девушка ярко себе представила, как река скроет ее своей черной накидкой. Перед тем как утопиться, Марина оглянулась по сторонам. Вокруг кипела жизнь: в пробке нервно томились автомобилисты, прохожие шли по своим делам – кто-то стремительно, кто-то прогуливаясь. Люди оказались серьезной помехой. «Что они подумают?» – встревожилась Марина. Очень некрасиво у всех на глазах, как ненормальной, лезть через ограждение и бросаться в воду.
Какая чудовищная безысходность! Даже покончить с собой нельзя, чтобы не мучиться! Марина отвернулась к реке и закрыла ладонями лицо, соображая, что делать дальше. Больше ночевать на вокзале она не желала. Подумав немного и переломив свою гордость, Марина все-таки решила идти на вокзал за билетом до Петрозаводска.
Тихо стучали колеса, поезд мягко катился в ночи, унося Марину Ларину на Север из холодного и чужого Петербурга. Она вдохнула его сырой воздух, увидела его нелицеприятные стороны и, казалось бы, должна была поклясться себе, что никогда и ни за какие коврижки сюда больше не вернется. Но, несмотря ни на что, этот город приворожил ее, как чародей, и навсегда украл сердце.
Начало июня. Санкт-Петербург
С утра Ивана снова допрашивал следователь. Какой это был допрос – пятый, шестой или десятый, – он сбился со счета. Поначалу Иван анализировал слова Тихомирова, запоминал его вопросы и свои ответы, чтобы в дальнейшем не запутаться в показаниях, а потом плюнул на это дело и перестал отвечать вообще. Он попросту устал. В этот раз следователь начал с хорошей вести.
– Могу вас порадовать. Минус один труп, – специфически пошутил Тихомиров. – Нашлась ваша знакомая Марина Ларина. Жива и здорова. Так что вменять вам в вину ее убийство оснований больше нет.
Иван впервые за все время пребывания под арестом улыбнулся:
– Что с ней произошло? Надеюсь, ничего страшного?
– Банальная история. Барышня в поисках счастья решила уехать из провинции в большой город, а потом, разочаровавшись, вернулась домой.
– Ну, слава богу, что все обошлось, – выдохнул Иван. А то было бы жалко девчонку, если бы она пропала. Ему вспомнились мягкие черты лица Марины, ее наивные синие глаза, милая манера краснеть и одновременно хмуриться и вот эти очаровательные восклицания: «Ах, да!» и «Ну-ка, быстренько ответь мне!»
Как и предполагал Иван, Тихомиров его вызвал не ради того, чтобы сообщить о Марине, и не ошибся.
– Это были хорошие новости, а теперь – плохие. Погибла Майя Валенкова. Что вы на это скажете?
Ивана словно окатили ведром холодной воды.
– Майя?! Она точно погибла?
– На этот раз, увы, да. Найдена в своей квартире – мертвой. Вы ведь ее знали, не так ли?
– Знал.
– И бывали у нее дома?
– Бывал. Но это не значит, что я ее убил, – зло ответил Иван. Ему надоели дурацкие приемчики следователя.
Новость о том, что погибла Валенкова, для следствия новостью отнюдь не являлась. Илья Сергеевич нарочно выкладывал карты по одной. Он также знал, что Форельман к смерти Майи непричастен, поскольку в это время он уже был в Карелии, но разговаривал с Иваном именно в такой манере, надеясь вывести его из равновесия и получить хоть какие-то показания.
– Расскажите, что вас связывало с Валенковой? У нее была брошь в виде солнца, очень похожая на ваш амулет и на то, что изображено на картине Малуниса.
Иван тяжело посмотрел на следователя. Опять все тот же вопрос – про Золотое Солнце; и почему он должен на него отвечать?! Ведь найти клад язычников – хрустальная мечта его детства! Это его личная жизнь, тайна его души, в которой нет места чужим носам.
«Прохладным весенним утром Алекс вышел на перрон Витебского вокзала. Он приехал в Питер для того, чтобы восстановить справедливость, нарушенную несовершенным законом, бездушными чиновниками и злодейкой-судьбой.
Когда-то он был молодым и здоровым, жизнь казалась ему безграничной, полной возможностей и приключений. Если возможности были под вопросом, то приключения не заставили себя долго ждать. Он, как в волны океана, бросился им навстречу, едва достигнув совершеннолетия. Детство еще не закончилось, желание играть не прошло, и игрушкой для него стала жизнь. Ею можно размениваться, пробовать ее на вкус, браться за все, что угодно, и с легкостью возвращаться к исходной точке – времени же прорва, и год-два во вселенском масштабе – ничто, поэтому их можно потратить на игру…»
Вадим читал украденную у Майи тетрадь, и у него складывалось впечатление, что он читает про себя. Это же у него военная выправка, шрам над бровью, нос загнут книзу! Он в детстве на спор доставал языком до собственного носа, благодаря чему обзавелся коллекцией наклеек на спичечные коробки. Это он носит перчатки даже летом, и если снимает их прилюдно, то только с правой руки, потому что левая обезображена войной. Но главное совпадение – это не внешность: девушка откуда-то узнала все про его судьбу.
Они и представить себе не могли, как может быть страшно на войне. Громыхнуло, где-то загорелся сарай, послышались автоматные очереди. Стрельба здесь велась постоянно – то утихала, то возобновлялась вновь. Палили в основном не по цели, а в ответ на взрыв, или чтобы обозначить, что они тоже не безоружные, или же просто так, вместо «здрасьте» своим же, а то и для того, чтобы самим было не так страшно: мол, мы стреляем, значит, мы вооружены и нам бояться нечего, в то время как у них мурашки бежали по спине. Все, кто здесь оказался, в большинстве своем – мальчишки, еще вчера сидевшие за партой. Кто в погоне за славой, а кто и по дури сюда попал, совершенно не догадываясь о том, что их ждет. Ведь можно было отказаться от службы в Афганистане, так ведь нет – у многих играла показная гордость и была сильна зависимость от общественного мнения: дескать, не поехал ты в Афган, значит, трус и место твое – у мусорного ведерка, а поехал – значит, бравый ты парень!
Они уже потеряли товарищей, видели, как гибнут люди, видели кровь – свою и чужую, стоны, ужасы, раны и смерть. Все происходило буднично: они даже не доехали до места назначения, когда их колонна попала под обстрел. Они с Пашкой видали баталии и покруче: с дымом до небес, с пожарищами, которые за мгновение сметали целые города, и с прочими бедствиями мирового масштаба, по сравнению с которыми горящий сарай – чих кошачий, на него и внимания обращать не стоит. Все это так, с той лишь разницей, что глобальные катастрофы происходили на киноэкране, а сарай горел в реальности, совсем рядом, и оттуда раздавались крики. То ли из сарая кто-то не мог выбраться, то ли переживал за свое имущество, то ли орали, проклиная войну, развязавших ее политиков, моджахедов и советскую армию, в которой они с Пашкой служили. Моджахедов не любило мирное население, но их поддерживало настроенное против демократии афганское общество, а советских солдат ненавидели обе стороны. Зачем они приперлись на эту войну, спрашивается?! То есть что здесь делали они с Пашкой, понятно, а вот какой прок от советских войск в дымящемся от пожаров и взрывов Афганистане, с его своеобразным исламским укладом, – этот вопрос для них оставался открытым.