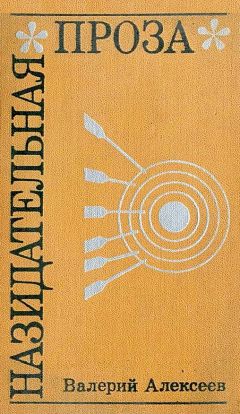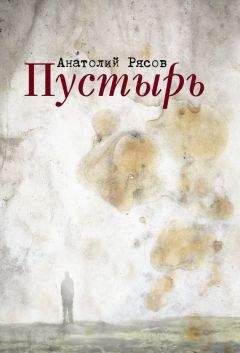Лида Пахомова. Да не хотела я, чтоб соседи узнали, а то бы я ему тут же ночью в коридоре устроила. Наутро он чуть свет убежал, ну, думаю, ничего, вернешься. А вечером вся эта каша заварилась, так с рук ему и сошло. Он до сих пор еще ненаказанный ходит. Вы уж простите меня, что я вам дело путала, только и так и так ничего сказать не могу. Ждала я его, всю ночь не смыкала глаз. Душа болела: лежит, думаю, где-нибудь в канаве в одном нижнем белье. Да бог с ней, с получкой, хоть голый бы домой пришел. А он стоит за дверью, курит, и что обидно ни в одном глазу, трезвенький. Он вам не говорил, где шатался? И мне не сказал. Такая меня обида взяла: ну, хоть убей его тут на площадке. И было бы у вас сразу два расследования. Как догадалась, что он? Да говорю вам, всю ночь не спала, то задремлю, то вскакиваю, как сумасшедшая: звонил? не звонил? Как спать разошлись все жильцы, и я прилегла одетая. Тут в сон меня стало клонить, смотрю — а уже два без пяти. Тут, говорят, Андрей приходил, с покойницей ругался, а я все это проспала. Входи и режь меня, как курицу. Нет, думаю, надо пойти и выдернуть палку. Вдруг явится пьяный, начнет дверь с петель снимать. Пьяному ему все нипочем. И — как провалилась. Часов около трех екнуло у меня сердце, так душно стало, тяжело. Ну, думаю, не пришел еще — плохо дело. Взяла часы, будильник, поставила себе на грудь и лежу, время считаю. А руки-ноги как мертвые. Теперь-то я знаете что думаю? Они мне, наверно, в замочную скважину курнули чего-нибудь такого. Рассказывала мне одна, есть у них такие папироски. Не знаю, как и что, но очень мне тяжело было. Три десять, три пятнадцать… дай, думаю, схожу посмотрю: не лежит ли на лестнице весь заблеванный. С ним это случалось: до дому шаг один, а он падает, с лестницы катится и спит внизу, как мертвец. А то этажи спутает. Господи, и за что на меня крест такой! Хоть в церковь иди и молись: всем весело, всем смешно. Ах, пьяненький, ах, чудачит. А мне его чудачества в десять лет жизни обошлись. Смотрите: похоже, что нет тридцати? Да сорок дашь — не ошибешься. Ну ладно, иду в коридор, темнота. Знай я тогда, что она тут, за дверью, лежит, — нипочем бы не вышла. И ради Коли не вышла бы. Пусть спит, подлец, на лестнице, как бездомная собака. Иду по коридору босиком, по стенке руками шарю… и все мне теперь кажется, что я его видела. Стоит мне навстречу, лицо платком завязано… Хотите — верьте, хотите — нет. Я и сама себе не верю. К двери подхожу к нашей общей, ухо приложила — стоит, паразит, стоит, не валяется, и сигаретку курит. Кто? Николай мой, кто же еще, я его дыхание знаю, он носом присвистывает, когда курит. Тихонечко палку я эту выставила, дверь отомкнула — вошел, не замешкался. Как ждал, что открою. Ну что, говорю? Ничего. И по коридору пошел, не оглядываясь. Вот так мой благоверный домой заявился. Я очень прошу меня простить.
Николай Пахомов. Сколько я там на лестнице простоял? Да пять минут, не больше. Сигареты не успел докурить. Вдруг дверь открывается, и меня за рукав кто-то тащит. Смотрю — Лидка моя. Обрадовался еще: домой наконец попал. Не знал еще, что квартира наша меченая. В 3.30 это было, я так полагаю. А подтвердить? Да никто не может, опять же одна жена. Конечно, вы думаете, что она теперь все подтверждать будет. Но это чистая правда. Да знаю я, что не доказательство. Уж если не везет, так не везет. На улице никто не попался, на лестнице никто. Там парочка на площадке выше этажом шуршала. Бывало, спугнешь ее или закурить попросишь… А в ту ночь мне не до того было. Да все одна и та же девчонка, шустрая такая. То с одним, то с другим кукует. Нет, не из нашего дома, по-моему, она из дома напротив. В общем, здешняя, я ее часто на улице вижу. Вот облюбовала наш четвертый этаж: видно, свой подъезд не нравится или не хочет близко к своему дому подводить. Раза три я ее здесь заставал, и все с разными. Дерзкая такая, за словом в карман не лезет. Но в этот раз, как нарочно, я на ту площадку не заглядывал. Она бы подтвердила, разговорчивая такая девчоночка. А дверь Лида за собой опять задвинула — наверно, мне назло. Я утром матерился, когда открывал.
Проверить показания Пахомова оказалось намного проще, чем он предполагал. Нам не пришлось искать окурки под скамейкой у ворот его «знакомой». Мы попросили его показать на плане Москвы, по каким улицам он «топал», и постовые милиционеры подтвердили его показания: не так уж сложно заметить одинокого прохожего, который бредет через всю Москву и разговаривает сам с собой в три часа ночи. Это новое алиби было, конечно, куда более стопроцентным, чем прежнее.
Нас очень заинтересовало сообщение о «шустрой девчонке», которая, по выражению Пахомова, «куковала» в ту ночь у лестничного окна. Но, видимо, жила она не по соседству, как предполагал Пахомов, и после ночи с 26 на 27 мая в этих местах не появлялась. Возможно, слух об убийстве ее спугнул. Однако один из ее кавалеров оказался «тутошним жителем». Николай Пахомов совершенно случайно встретился с ним в магазине и, проявив завидную настойчивость, привел его к нам. Собственно говоря, мы надеялись найти эту девчонку и сами, полагая, что она только сменила место, но привычкам своим не изменила. Наши сотрудники потревожили немало парочек в этом районе, и рано или поздно мы должны были на нее набрести. Показания «шустрой девчонки» могли помочь нам уточнить некоторые детали. Счастливый случай только ускорил процесс.
«Шустрая девчонка», нимало не смущаясь, призналась, что бывала в этих местах с одним знакомым. Забегала и «попрощаться» (так она выразилась) в первый подъезд дома № 31. Поднималась, как правило, на третий этаж. Николая Пахомова она вспомнила без труда. И с такой же легкостью сообщила, что 26 мая (а точнее, в ночь на 27-е) «прощалась» здесь, на этаже, часов этак до четырех. Дверь квартиры № 24 была ей видна отлично, потому что она стояла спиной к стене. Но сквозь сетку лифта, так что ее снизу разглядеть было невозможно. Разве что огонек сигареты. Но в тот вечер они не курили, потому что сигареты кончились. На другой-то вечер она узнала, что как раз в этом подъезде что-то произошло. И охота здесь «прощаться» у нее пропала. Что же касается площадки второго этажа, то она может гарантировать, что между часом и четырьмя никто из квартир не выходил, и двери там не открывались. После четырех она ручаться не станет, потому что не помнит точно, когда ушла: то ли в четыре, то ли в половине пятого. Но до этого времени в подъезде было совершенно безлюдно. Отчего она с такой уверенностью говорит? Оттого, что люди разные бывают. Некоторые не любят, когда у них на площадке торчат: побаиваются или завидуют. Вот и приходится озираться.
Особых оснований доверять показаниям «шустрой девчонки» у нас не было: надо полагать, она «куковала» возле лестничного окна не для того, чтобы наблюдать за дверью квартиры № 24. И все же она была единственным человеком, который мог видеть «чужого», выходившего из квартиры в ночь с 26 на 27 мая. Мог, но не видел. От этого факта отмахиваться было нельзя.
Но мы вернулись на исходные позиции: из двух оставшихся под подозрением жильцов один (Гера Полуянов) настаивал на том, что совершить преступление мог только «чужой», другой же (Илья Кузьмич) категорически утверждал, что «чужой» проникнуть в квартиру никак не мог: до 0.45 ему просто негде было бы спрятаться и выждать, когда все улягутся, а после 0.45 общая дверь была заложена на стальную палку. Позиция Ильи Кузьмича, несомненно, была более убедительной: Лидия Пахомова и Андрей Карнаухов в своих показаниях сходились на том, что Илья Кузьмич закладывал дверь на палку, хотя ничто не мешало ему «забыть» это сделать. На чем же тогда основывается уверенность Полуянова, что старик «оплошал»?
Гера Полуянов. Ну, видите ли, в моем положении трудно на чем-то настаивать: даже если бы я вспомнил, в котором часу просыпался, проблемы это все равно не решало бы. Не в моем характере, проснувшись среди ночи, бродить по квартире и выяснять, все ли двери надежно заперты. Одно из двух: либо Илья Кузьмич запамятовал, либо… с другой стороны, не он же убил! Если бы он — наверно, на палке на этой так не настаивал бы. Конечно, можно допустить, что он нам с Николаем вредит. Но и себе самому вредит, неужели он этого не понимает?
Мы обратились к Илье Кузьмичу с аналогичным вопросом: на чем основана его уверенность, что дверь была заложена с часу ночи (точнее, с 0.45) до самого утра? Не поднимался ли он ночью по какой-либо надобности?
Ответ был таков.
Тихонов. Возможно, вполне возможно, гарантировать не стану, но как-то выскочило из памяти, забыл. Бывает, столько раз за ночь поднимешься — то свет погасить, то к телефону, то дверь открыть, то дверь закрыть, то, извините, в туалете воду слить — голова кругом. Я как швейцар, вот только чаевых мне не платят. Возможно, встал по нужде, увидел, что дверь в порядке, и успокоился. Что? В темноте не видно? Так, может быть, и свет у них горел, они же все люди занятые. Встал по малой нужде — не записывать же такую вещь на бумажке, — вышел в коридор, свет горит, дверь на запоре, вот и запомнилось. Не знаю, что вы голову ломаете: я дверь закладывал, а там уж дело не мое. Либо Герка дружка своего выпустил, либо Николай — такого же, как он, забулдыгу и пьяницу. Ко мне если и приходят раз в год — все люди приличные, по ночам в коридоре не шастают. Кто? Ну, родственники, знакомые, из других городов приезжают. Ночевать? А, вот вы к чему клоните. Доложил, наверно, кто-нибудь, что постояльцев на ночь принимаю. Петляют, выкручиваются, теперь от них любого наговора жди. Я же один, а у них алиби. Как змея, которой на хвост наступили: сапог будет грызть, штанину кусать, пока вся ядом не изойдет. Нет, уважаемые, Илья Кузьмич к себе с улицы не пустит, не такой Илья Кузьмич человек. Жизнь меня научила быть начеку. И совесть у меня спокойна: хоть среди ночи подымите, скажу — нет, не причастен.