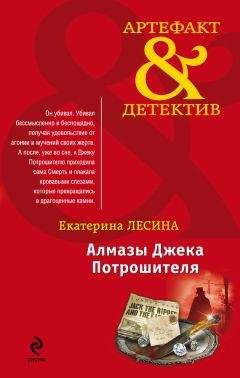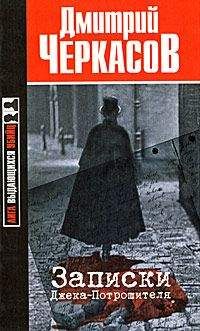Салат «Заячья лапа». И «Лосиный горб». Буженина с клюквой – это хотя бы понятно. А вот что такое «Аргентинское осадо»? Такого зверя Саломея не знала.
Наконец официант удалился. Стало тихо. Потрескивали дрова в камине. Пламя тянулось, точно желая добраться до Саломеи, но было слишком слабо. И хорошо.
Саломея боится огня. Она не признавалась себе в этом страхе раньше, но… лучше умереть какой-нибудь другой смертью, чтобы не так больно.
– Ты плакала во сне.
– И ты решил меня утешить?
У далматовской сорочки влажные манжеты. И в розовых пятнах. Кровь?
– Нет. Я не слишком-то умею вытирать слезы. Просто сказал. Ну и если уж разговаривать, то в каком-нибудь приятном месте.
– А есть о чем говорить?
Пятна и на рукавах. А еще – на воротнике, мелкие, словно бусины. Почему Далматов не переоделся?
– О тебе и Лере. О Гречковых. О серьгах. Кирилла убили. Полину задержали. Она не виновна.
Илья проговорил это ровным тоном. Подали аперитив.
– В мусорном баке нашли ее перчатки со следами пороха. И куртку. Тоже со следами.
– Но она не виновна?
Или Далматову хочется так думать? Полина – красива. И врать она умеет. Нравится – тоже.
Уж не ревнуешь ли ты, Саломея?
Глупость какая. Конечно, нет. Далматов – это… напарник. Пожалуй, так вернее всего.
– При Гречкове обнаружили фотографии. Полина и ее любовник. Романтическая прогулка… а еще Лера и ее любовник… – Илья тянет время, не спешит рассказывать.
И подают салаты в глиняных расписных мисках. Столовые приборы из дерева. А стаканы – граненые, в серебряных подстаканниках.
– Шантаж? – предположила Саломея. – От шантажистов избавляются.
Пистолет. Перчатки. Куртка. И мотив. А он все равно не верит в виновность Полины.
– Лисенок, вот если бы ты решила убить меня…
– Зачем?
Он пожал плечами:
– Ну просто так. Мало ли… жизнь – такая вещь… странная. В общем, если бы ты решила убить меня. Достала бы пистолет. Устроила бы засаду. Выждала бы… час или два. Всадила бы пару пуль.
Мерзкая вырисовывается картина. И живая.
– Так неужели у тебя не хватило бы мозгов избавиться от улик? Хотя бы выбросить подальше?
И это его аргумент?
– У нее нет опыта…
– Ну как сказать. Ты ешь, Лисенок.
Выражение лица у него странное. Не то задумчивое, не то печальное, и кажется, вызвана эта печаль отнюдь не убийством Гречкова.
– Пару лет тому в Москве одно дельце вскрылось. Из обычных довольно. Опека одиноких стариков с последующим их упокоением. Старикам, в общем-то, случается умирать. Инфаркт. Инсульт. Сломанная шея. А от стариков остаются квартиры. И договор об опеке, по которому квартира отходит опекуну. Дальше – перепродажа… в общем, стандартная схема. Но что удивительно. Контора работала три года, а взяли за дела последних месяцев. Жадность подвела. На одного опекуна – по нескольку опекаемых. И на тот свет уходили они быстро. Документы, конечно, подняли, только вот доказательств по прежним делам не нашли. Опекуны одноразовые. Люди сторонние, друг с другом не связаны. Репутация чистая, накрахмаленная даже. Ничего про делишки риелторов знать не знают, ведать не ведают…
Рассказывает тихо, словно сказку, только жутковатую весьма. И Саломея слушает, уже догадываясь о финале.
– И работать бы конторе дальше, да вот незадача – директор любовницу сменил. Вроде и мелочь, но все вдруг вразнос пошло.
– Полина?
Кивок. И локти на столе. Ладони, сцепленные в кулак.
– Ее пытались зацепить, но доказательств не нашлось. Не знала. Не видела. Не слышала… не понимала. Что взять с влюбленной женщины? А отзывы с места работы самые положительные. И смертность на ее участке ничуть не выше, чем на прочих. Так что, Лисенок, пистолет она бы не проворонила.
Осадо оказалось жаренным на углях мясом. Сочное и мягкое, оно приятно пахло травами, и Саломея почувствовала, что голодна. Мясной сок расплывался по тарелке, тревожа острова из зелени и пропитывая свежевыпеченный хлеб. Далматов ел сосредоточенно. У него как-то легко получалось управляться со всеми этими вилками, ножами и сложными конструкциями из мяса и овощей. А вот Саломея не справлялась.
Мама говорила, что мясо Саломея не режет – рвет ножом на клочья, а эти клочья потом по тарелке размазывает…
Молчание. Огонь замирает. И снежинки выводят хороводы.
За стеклом ночь.
И часов в ресторане нет. Хорошо, пусть время обождет. Жизнь поставлена на паузу, и Саломея воспользуется этой паузой хотя бы для того, чтобы оценить вино, десерт и тишину.
На обратном пути она все-таки засыпает. И уже во сне уговаривает себя не плакать. От Далматова пахнет отцовским одеколоном, и Саломея теряется между прошлым и настоящим. Впрочем, ее устраивает этот зазор. И пауза. Жаль, что утром все начнется сначала.
Глава 4
Долговые обязательства
Звонок раздался утром.
Далматов очень надеялся, что звонка не будет, хотя понимал – надежды тщетны. И трубку снимал, готовясь дать отпор.
– Илюшка? – Клиент был, по обыкновению, мягок, фамильярен. – Поговорить бы, дорогой. А то по телефону такие вопросы не решаются…
Ничего хорошего от встречи ждать не придется, но отказываться неправильно. Клиент не любит, когда люди действуют не по правилам. И Далматов, подавив вздох, спросил:
– Где и когда?
– А и сегодня. Чего тянуть. Пиши адресок. И будь любезен, Илюшка, уважь старика. Не опаздывай.
Ждали на стоянке. Черный фургон перегородил выезд, но был скорее декорацией. Клиент явился на неприметной «Ауди» серебристого цвета. Он вылез из машины и стоял, опираясь на открытую дверцу.
Он был человеком старого мира, и сам успел постареть. Седые волосы, собранные в куцый хвостик. Седая щетина по оврагам морщин и складок. Пальцы с омертвелыми, белыми ногтями. Золотые коронки.
– Доброе утро, – Далматов вежливо поклонился. – Весьма надеюсь, что мы с вами договоримся.
– И я надеюсь. Очень надеюсь, Илюша…
Подходили слева и справа, не таясь и без особой спешки. Слева – тип в синей рубашке. Высокий. Широкий. С характерными повадками и фигурой борца. Справа – мелкий, похожий на клерка, но ломаный нос и шрам на щеке выбивались из образа. Оба молодые. Прикормленная стая. Им скажут рвать – они и будут рвать. Если понадобится – в клочья.
Плохо.
– Мне тебя рекомендовали как человечка серьезного… понимающего… с понятиями, – последнее слово седой выделил особо. А пальцы вцепились в широкий по старой моде узел галстука. – А ты мне звонишь и говоришь, что все отменяется.
– Павел Афанасьевич, ситуация такова… вам лучше будет отступить. Объект не поддается обработке.
– Пустозвон.
Он покачал головой, и по знаку этому на Далматова бросились. От левого он ушел, выскользнув из медвежьего захвата. Правого ударил, но не попал, потому как двигался клерк быстро, быстрее Ильи. И оказавшись вдруг совсем рядом, сам ударил, лицом в лицо.
Хрустнула переносица. И кровь полилась.
Далматов не любил кровь.
Он успел об этом подумать, ткнув локтем в лицо. И вывернувшись, впечатал нос ботинка – жалко, ботинки мягкие – в чье-то колено. Раздался хрип и мат.
– Не бузи, Илюша, – Павел Афанасьевич не сдвинулся с места. – Хуже будет.
Достали. Тычок в почки, и тело проламывает боль. Доли секунды уходят, чтобы с нею справиться, но этого слишком много. И массивная рука захватывает шею. Сжимается. Далматов бьет, метит по ногам, выгибаясь, пытается добраться до лица, но нарастающий гул в ушах мешает сосредоточиться.
– Васятка, ты поаккуратней. Совсем не умучай. И руки побереги.
Сквозь звон прорывается только боль.
Бьют по корпусу, уже неторопливо, с пониманием ситуации. Убивать не станут. Поучат. Не страшно. Давно уже. Только думать выходит плохо.
Почему оно, то, что с другой стороны, не прорывается сейчас?
Пусть бы выглянуло. Помогло хоть раз.
А дышать не выходит. И шея скрипит. Слышно, как рвутся, расходятся позвонки.
– И ты, Сережка, силу-то знай…
Удары воспринимаются опосредованно. Тело чужое. Тело не нужно. Далматов прячется в библиотеке разума. Здесь километры полок и сотни тысяч книг.
Далматову спокойно рядом с книгами. От них пахнет тишиной. И если выбрать нужную… если…
– Эй… Васятка, плесни еще водичкой. Водичкой плесни. – Этот преисполненный заботы голос прорывается сквозь дверь библиотеки. Илья идет, чтобы дверь закрыть, но едва он касается ручки, как та выворачивается, выталкивает в реальный мир.
– Вот, открывай, Илюша, глазки. Утро на дворе. Ты уж извини… но я предупреждал, что хуже будет.
Лицо Павла Афанасьевича плывет. Оно то расползается пятном, то вдруг обретает неестественную резкость.
– Ты пока полежи, подумай. Ребятушки слегка перестарались. Но молодые, горячие. А ты Пашеньку ударил. Нехорошо.