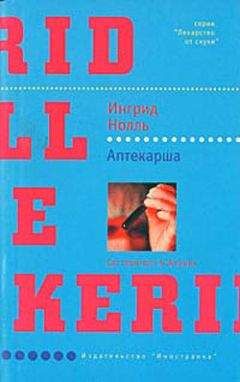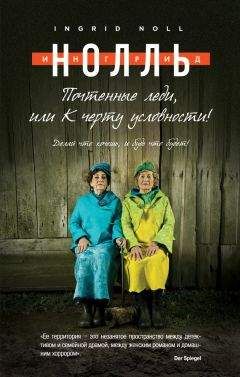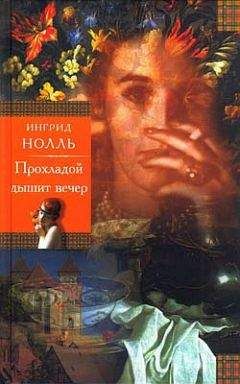Стыдно признаться, но я и тут была счастлива. Тематика, правда, незнакомая, но довольно скоро я убедилась, что работа у него нетрудная, во всяком случае много проще моей. Я переворошила гору специальной литературы и справочников, узнав необычайно много нового о человеческой челюсти. Даже сейчас, когда столько времени прошло, я без труда могла бы сделать небольшой доклад на тему «Силиконовые пластические материалы для снятия объемных оттисков и особенности их применения в стоматологии». Видимо, именно в пику отцовскому вегетарианству я стала страстной мясоедкой, хоть и знаю теперь, что для здоровья это не слишком полезно. Поэтому, как правило, больше ста граммов на нос я не покупаю. Но для здорового голодного парня как не сделать исключение? Зато какой это был восторг — вместе наброситься на гигантский бифштекс!
Однажды Левин принес мне разделочный нож для мяса и большую вилку, чтобы раскладывать порции по тарелкам, — семейное серебро с монограммой. Я растроганно изучала изысканный греческий ленточный орнамент, затейливый фамильный вензель и мелкие царапинки, оставленные на лезвии ножа тремя поколениями хозяев.
— Красота какая, — восхитилась я. — Даже не верится, как это твой дед решился с ними расстаться.
— Не то чтобы он так прямо решился, — пробормотал Левин, подправляя нож стальной точилкой. — Просто деду такие вещи уже ни к чему, у него, по причине самой банальной скупости, плохо подогнаны зубные протезы, так что мясо он может есть только в совершенно разваренном виде.
— Нет, это не по мне, — заявила я решительно. — Краденые вещи мне ни к чему, все равно мне от них никакой радости, отнеси все назад.
В ответ Левин только высмеял меня. Он же все равно наследник, рано или поздно оно все равно ему достанется, какой же смысл оставлять прекрасное серебро попусту тускнеть в буфете?
Я сдалась, сочтя похищение серебра шалостью, великовозрастной мальчишеской проказой, и понемногу стала привыкать к фамильным столовым приборам, число которых со временем увеличивалось.
Подруга Дорит только посмеивалась, слушая мои рассуждения о никчемности материальных ценностей; сама она без малейшего стеснения признается, что обожает дорогие вещи и шикарные магазины. Меня при этом она уличала в ханжестве. Дескать, мою позицию следует скорее квалифицировать как Understatement.[4] Я, мол, ненавижу богатство, хвастливо выставляемое напоказ. Зато ухлопать тысячу марок на какую-нибудь мелочь, скажем на японскую фигурку нэцкэ, на изящное колечко в стиле модерн с жемчужинами и эмалью, на дамскую сумочку экстра-класса, — это я всегда пожалуйста. Наверно, поэтому у меня не повернулся язык всерьез отчитать Левина, когда он принес мне драгоценности своей бабушки. Вещицы были скорее скромные, правда очень тонкой работы и золотые. Но в конце концов я тоже много всего для него делаю, трачу на него деньги, пекусь об его интересах. Столовое серебро и бабушкины золотые украшения — это знаки его любви, так надо на это смотреть. Теперь бы еще решить вопрос с ребенком…
Среди ночи госпожа Хирте иногда вдруг просыпается, хватает флакончик «Мисс Диор» и торопливо себя опрыскивает. Однажды в ночном полумраке — полной темноты в палате не бывает никогда — я видела, как она надевает на голову наушники своего плейера. Наверно, решила еще раз послушать свои любимые песни Брамса, которые иногда, как, кстати, и свои духи, радушно протягивает мне, будто это коробка конфет…
О себе она рассказывает мало. Когда меня пришла навестить моя бывшая аптечная шефиня, госпожа Хирте вдруг как-то погрустнела и скисла. Сама-то она никаких сил не жалела, стараясь разгрузить своего шефа, и вот она, благодарность. Стоило ей утратить трудоспособность, как о ней тут же забыли.
Я не большая любительница подобных откровенностей, особенно между женщинами; своей подруге Дорит, например, я только тихо завидую, а она, похоже, не без удовольствия поощряет во мне это чувство. Но тут, к этой незнакомой, в сущности, совершенно чужой мне женщине я впервые в жизни испытала сострадание — чувство, которое прежде во мне пробуждали исключительно мужчины.
Однажды в неурочный час Левин заглянул ко мне в аптеку, хотя прекрасно знает, что я не люблю на глазах у шефини уходить из-за прилавка в задние комнаты.
— Ну, в чем дело? — нетерпеливо спросила я, строго глядя в его сияющие глаза.
— Как насчет того, чтобы поменять собственную квартиру на общую? — поинтересовался он.
Все что угодно, только не это, пронеслось у меня в голове. Только-только я обжилась в своей маленькой уютной квартирке, очистила ее от всех дармоедов и захребетников, и теперь отказаться от всех этих завоеваний? Если я и соглашусь на такое, то только ради создания своей собственной семьи. Я энергично помотала головой.
— Да ты послушай сперва, — уламывал меня Левин, — у меня в руках, можно сказать, королевские апартаменты для нас двоих, это сказка, а не квартира!
Уверенными, точными движениями своих красивых рук Левин, будто заправский архитектор, принялся набрасывать план.
— Без балкона? — разочарованно протянула я.
— Не совсем, — возразил Левин. — Видишь ли, дом-то в Шветцингене,[5] в трех минутах ходьбы от замкового парка. Ты будешь, как княгиня, прохлаждаться в парке на белых скамейках, любоваться фонтанами, кормить уток, да еще и в барочный театр на все премьеры ходить!
В конце концов мы сняли эту большую квартиру в старом доме. Сквозь высокие решетчатые окна свет падал на деревянные полы. По сплетениям дикого винограда Тамерлан мог из окна спускаться прямо в сад и вкушать там все радости привольного кошачьего житья. Однако вскоре помимо балкона мне стало недоставать и еще кое-чего более существенного: покоя. Прежде Левин приходил ко мне всего на несколько часов и на ночь обычно не оставался. Теперь же, возвращаясь с работы, я неизменно заставала его дома, из чего, однако, вовсе не вытекало, что в ожидании меня уже зазывно посвистывает чайник. Зато радио орало вовсю, его пытался перекричать телевизор, а сам Левин в это время громко разговаривал с кем-то по телефону.
— Что сегодня на ужин? — деловито вопрошал он вместо приветствия.
Что ж, я получила, что хотела. Разумеется, я его обстирывала, я готовила, я ходила по магазинам, и за квартиру платила тоже я. Само собой, машину мою он брал когда вздумается.
Однажды после особенно тяжелого дня я, словно мать нерадивого сына, отругала его за беспорядок в квартире. При этом Левин даже не был неряхой, просто он ухитрялся занимать собой все пространство в квартире. Обе мои комнаты теперь неизменно были завалены вещами, не имеющими ко мне ровно никакого отношения, тогда как его комната выглядела почти необитаемой.
— Ты иногда у меня прямо как ребенок, — сказала я и поцеловала его.
— Разве ты не хочешь детей? — спросил он.
Я чуть не поперхнулась.
— Конечно, хочу, всякая нормальная женщина хочет иметь детей.
Казалось, Левин о чем-то раздумывает.
— Хочешь, заведем? — спросил он. Прозвучало это так, будто в дополнение к кошечке он не прочь завести и собачку.
— Потом, — сказала я. Мне хотелось иметь не внебрачного ребенка, а полноценную семью.
Не реже раза в неделю мы ездили к деду Левина в Фирнхайм.[6] Я ожидала увидеть нечто вроде богадельни и была немало изумлена при виде дома, скорее заслуживающего называться виллой. Старик жил здесь один, под присмотром экономок, которые, правда, то и дело менялись. Последнее обстоятельство Левин объяснял допотопными представлениями старика об их жалованье.
Видимо, дед и вправду несколько оторвался от жизни и реальных цен на рынке труда, пребывая в безумном убеждении, что весь белый свет только и норовит его облапошить. Левин отзывался о старике без особого почтения, но долг свой исполнял честно: следил за домом и садом, возил деда по врачам и в банк, даже ногти ему на ногах стриг. Со временем и я стала выполнять работу, на которую не были способны экономки: печатала письма, заполняла бланки счетов, сортировала белье, пополняла продуктами морозилку. Думаю, кто другой на его месте отблагодарил бы меня не только скупым словом, но и каким-нибудь маленьким презентом. Тем больше я ставила Левину в заслугу, что он — пусть не без ворчания — все равно продолжает бескорыстно заботиться о деде.
Однажды, когда я оказалась со стариком наедине — Левин повез отдавать в ремонт газонокосилку, — я попыталась обрисовать ему плачевное материальное положение его внука.
Герман Грабер, так его звали, посмотрел на меня раздосадованно.
— Значит, и вы тоже считаете меня старым скрягой, — проговорил он и, как ему казалось, незаметно прополоскал свои «третьи» зубы глотком кофе. — Допустим, вы знаете, что я богат. Чего вы, полагаю, не знаете, так это того, что мой бедный обездоленный внук превратил в груду металлолома мой новенький «мерседес». За что ему и приходится безвозмездно делать для меня кое-какую мелкую работу, но если он при этом еще и жалуется, то лучше уж мне сразу завещать все свои деньги первому попавшемуся сироте.