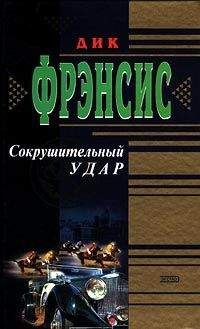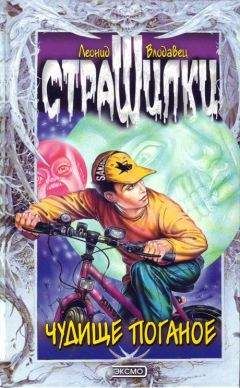— И еще, — сказал я, — прежде, чем заключить сделку, я хочу знать, что это за лошадь.
— Разбежался!
Норт боялся, что, если я узнаю, что это за лошадь и кто ее владелец, я перехвачу у него сделку и он лишится прибыли. Я бы такого никогда не сделал, но сам Норт сделал бы, и, естественно, судил он по себе.
— Если ты ее купишь, а она меня не устроит, я ее не возьму, — сказал я.
— Это именно то, что тебе нужно! — сказал Норт. — Можешь мне поверить.
Его мнению о лошади, пожалуй, можно было доверять, но это и все. Если бы лошадь предназначалась не для Николя Бреветта, я бы, пожалуй, рискнул и купил вслепую, но сейчас я не мог себе этого позволить.
— Сперва я должен ее одобрить.
— Ну, тогда мы не сговоримся! — отрезал Норт и повесил трубку.
Я задумчиво грыз карандаш, размышляя о джунглях торговли лошадьми, в которые я так наивно сунулся два года тому назад. Я полагал, что хорошему барышнику достаточно великолепно разбираться в лошадях, знать наизусть племенную книгу, иметь сотни знакомых в мире скачек и некоторые деловые способности. Я жестоко ошибался. Первоначальное изумление, вызванное царящим вокруг беззастенчивым мошенничеством, сменилось сперва отвращением, а потом цинизмом. В целях самосохранения я успел нарастить толстенную шкуру. Я думал о том, что среди всеобщей бесчестности иногда бывает трудно найти честный путь, а следовать ему еще труднее.
За два года я успел понять, что бесчестность — понятие относительное. Сделка, которая мне представлялась вопиющей, с точки зрения прочих выглядела просто разумной. Ронни Норт не видел ничего дурного в том, чтобы выдоить из рынка все возможное до последнего пенни; и вообще, он славный парень...
Телефон зазвонил. Я снял трубку.
— Джонас!
Это снова был Ронни. Я так и думал.
— Этот конь — Речной Бог. С тебя за него три пятьсот плюс пятьсот сверху.
— Я тебе перезвоню.
Я нашел Речного Бога в каталоге, посоветовался с жокеем, который несколько раз на нем ездил, и наконец перезвонил Норту.
— Хорошо, — сказал я. — Если ветеринар подтвердит, что Речной Бог в порядке, я его возьму.
— Я же тебе говорил, что ты можешь на меня положиться! — с притворным вздохом сказал Ронни.
— Ага. Я тебе дам две пятьсот.
— Три тысячи, — сказал Ронни. — И ни фунтом меньше. И пятьсот сверху.
— Сто пятьдесят, — отрезал я. Сошлись на двухсот пятидесяти.
Мой приятель-жокей сообщил, что Речной Бог принадлежит фермеру из Девона, который купил его необъезженным трехлетком для своего сына. Они худо-бедно объездили его, но теперь сын фермера не мог с ним справиться.
— Это конь для спеца, — сказал мой приятель. — Но он очень резвый и к тому же прирожденный стиплер, и даже этим чайникам не удалось его испортить.
Я встал и потянулся. Было уже половина одиннадцатого, и я решил позвонить Керри Сэндерс с утра. Комната, служившая мне кабинетом, вдоль стен которой шли книжные шкафы и приспособленные под них буфеты, была не только кабинетом, но и гостиной. Здесь я больше всего чувствовал себя дома. Светло-коричневый ковер, красные шерстяные занавески, кожаные кресла и большое окно, выходящее во двор конюшни. Разложив по местам бумаги и книги, которыми я пользовался, я выключил мощную настольную лампу и подошел к окну, глядя из темной комнаты на конюшню, залитую лунным светом.
Все было тихо. Трое моих постояльцев мирно спали в денниках, ожидая самолета, который должен отвезти их за границу из аэропорта Гатвик, расположенного в пяти милях отсюда. Их следовало отправить уже неделю назад, и заморские владельцы слали мне разъяренные телеграммы, но транспортные агенты твердили что-то насчет непреодолимых препятствий и обещали, что послезавтра все устроится. Я говорил им, что послезавтра никогда не наступает, но они не понимали шуток.
Моя конюшня служила перевалочным пунктом, и лошади редко задерживались у меня больше чем на пару дней. Они были для меня обузой, потому что я сам ухаживал за ними. До недавнего времени я и подумать не мог о том, чтобы кого-то нанять.
За первый год работы я устроил пятьдесят сделок, за второй — девяносто три, а в эти три месяца я работал не покладая рук. Если мне повезет — скажем, если мне удастся купить годовиком за пять тысяч будущего победителя Дерби или что-нибудь в этом духе, — у меня, пожалуй, могут начаться проблемы с налоговой инспекцией.
Я вышел из кабинета в гостиную. Мой брат Криспин по-прежнему храпел, лежа ничком на диване. Я принес плед и накрыл его. Он еще долго не проснется, а когда встанет, то будет, как всегда, угрюм и зол с похмелья и примется вымещать на мне свои застарелые обиды.
Мы осиротели, когда мне было шестнадцать, а ему семнадцать. Сперва погибла мать — разбилась, упав с лошади, а через три месяца умер от тромба в сердце отец. И за какую-то неделю наша жизнь вдруг перевернулась вверх дном. Мы выросли в уютном доме в сельской местности, у нас были свои лошади, кухарка, садовник, конюхи. Мы учились в дорогих пансионах — нам это казалось само собой разумеющимся — и проводили каникулы, охотясь на куропаток в Шотландии.
Но не все то золото, что блестит. Адвокаты сурово сообщили нам, что наш батюшка заложил все, что было можно, включая свою страховку, продал все фамильные ценности, и от полного банкротства его отделял только этюд Дега. Похоже, он несколько лет жил на краю пропасти, в последний момент каждый раз выставляя на продажу какую-нибудь очередную семейную реликвию. Когда все его долги были уплачены и дом, лошади, кухарка, садовник, конюхи и все прочее канули в бездну, мы с Криспином, не имея близких родственников, остались без крыши над головой и со ста сорока тремя фунтами на брата.
Школьное начальство все понимало, но не настолько, чтобы держать нас даром. Нам дали доучиться до конца пасхального семестра, и на том все и кончилось.
На Криспина все это подействовало куда сильнее, чем на меня. Он собирался в университет, хотел стать юристом, и место клерка, щедро предложенное ему суровым адвокатом, его не устраивало. Я по натуре более практичен, и это спасло меня от подобных страданий. Я спокойно смирился с фактом, что теперь мне придется самому зарабатывать на хлеб, подбил свои активы: легкий вес, крепкое здоровье и умение прилично ездить верхом — и устроился работать конюхом.
Криспина это выводило из себя, но я был счастлив. У меня натура не академическая. Жизнь на конюшне, после школьного сидения в четырех стенах, подарила мне желанную свободу. Я никогда не жалел о том, что потерял.
Я оставил Криспина храпеть дальше и поднялся к себе в спальню, размышляя, какие разные у нас получились судьбы. Криспин пытался устроиться на бирже, в страховой компании и все время ощущал, что его не ценят. А я сделался жокеем и нашел себя. Я всегда думал, что лучшей жизни для меня и быть не могло, и потому не жаловался ни на что из того, чем приходилось расплачиваться.
Моя спальня, как и кабинет, смотрела на конюшню, и, если не было мороза, я всегда спал с открытым окном. В половине первого я внезапно пробудился — какое-то шестое чувство включило сигнал тревоги.
Я лежал, весь обратившись в слух, не зная, что именно меня разбудило, но в полной уверенности, что не ошибся.
И тут я услышал его снова. Стук подков по твердой поверхности. Лошадь находилась в том месте, где ей в этот час находиться не полагалось.
Я отшвырнул одеяло и метнулся к окну.
В залитом лунным светом дворе не было ни души.
Только зияющий черный провал распахнутой двери денника, которой подлежало быть закрытой и крепко запертой на засов.
Я выругался. Сердце у меня упало. Самый ценный из моих постояльцев, стоимостью в семьдесят тысяч фунтов, вырвался на свободу и отправился бродить по опасным дорогам Суррея!
Он не был как следует застрахован, потому что новый владелец счел страховой взнос слишком высоким. За него еще не выплатили деньги из-за сложностей с переводом валюты. Мне пришлось гарантировать продавцу оплату, хотя денег у меня не было. И если я не найду этого двухлетка сейчас и немедленно, причем без единой царапины, мне конец. Покупатель был человек безжалостный, и, если с лошадью что-то случится, он платить не станет, а моя собственная страховая компания выплатит страховку, только если лошадь погибнет, да и то со скрипом.
Я молниеносно натянул свитер, джинсы, ботинки и ссыпался по лестнице, на ходу застегивая бандаж, придерживающий плечо. В гостиной по-прежнему храпел Криспин. Я встряхнул его, окликнул... Никакого результата. Криспин отрубился намертво.
Я забежал в кабинет, чтобы позвонить в полицию.
— Если кто-то сообщит, что у него в саду пасется лошадь, знайте, что это моя.
— Хорошо, — ответили мне. — Будем знать. Во дворе было тихо. Когда я проснулся, двухлеток был уже на дороге — я услышал цокот подков по асфальту, а не знакомое постукивание по булыжнику, заросшему травой.