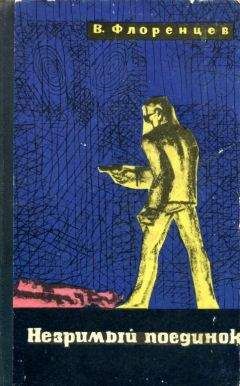Гриша Шибаев не может смотреть в окно. Оно сзади.
«Ну, вот, прощайте, милые кеды. Прощай, баскет», — грустит Гриша. Взгляд его уперся в желтые обои. Глаза унылые, как после проигрыша решающего матча.
Старычев притворяется спящим. Гриша знает об этом.
— Сергей Петрович, вы же не спите. Я вот о чем. Помните, как мы не спали по ночам? Сколько сил положили. В глазах рябит. И все же мы не взяли Русишвили. Он — непойманный. Так что же — он, значит, сильнее?
Старычев молчал.
— Сергей Петрович! — вскричал Гриша. — Я спрашиваю: Русишвили сильнее нас или нет? Он ездит на «волге», он отдыхает на даче, а мы…
Старычев шевельнулся. Словно кто-то дотронулся до больного плеча. Он приподнялся на здоровой руке, и лицо его исказилось от боли.
— Слушай, Шибаев, — прохрипел он. — Помнишь чеховского Ионыча? Так. А ты знаешь, откуда Ионычи берутся? Это люди, которым не хватило заряда на задуманное. Они задохнулись на середине дороги… Мы возьмем его! Слышишь? Возьмем! Но для этого нужны твердые доказательства. И ты не все еще знаешь. Сейф у меня не напрасно стоит. В нем кое-что есть.
Сергей Петрович откинулся на подушку. Гриша разволновался, ему захотелось искупить свою вину перед Старычевым.
— Сергей Петрович, — начал он, — у меня к вам просьба. Я хочу, когда встану, ну, когда заживет нога, поработать до конца с вами. Пока не возьмем этого… Я вас очень прошу…
Старычев вздохнул. От практиканта из ОУРа он знал: Шибаев три года мечтал поехать на Иссык-Куль. Накопил денег. После практики хотел поехать. И вот вместо отпуска…
Спасибо, Шибаев! Но тебе надо отдыхать. Ты поедешь на высокогорное озеро. Я сам справлюсь. Мне не привыкать.
— Сергей Петрович! — снова позвал Гриша.
Старычев закрыл глаза. Он улыбался.
«Молодчина, — подумал Старычев. — А нога заживет. Обязательно. И ты будешь играть еще в сборной института. Железно будешь играть, Гриша Шибаев».
Дом был старый, построенный неизвестно в какие времена. Он стоял на окраине Заркента и так же, как другие дома этого квартала, ожидал своего бульдозера.
В доме два этажа. Верхний жильцы именовали «пенсионеркой» — из восьми квартир, расположенных там, семь занимали пенсионеры.
Жизнь в старом доме текла размеренно-однообразно, соседи рассуждали о том, что недавно сказал У Тан и как это повлияло на международную обстановку, а потом вдруг начинали ругаться из-за того, что чей-то мальчишка, бросая камень в кошку, попал в окно.
Иногда разгорались дебаты. Люди собирались в кружок, дискутировали о том, помогает ли иглоукалывание, и что это за штука вообще, и есть ли прок от утренней гимнастики. Потом кружок распадался — кто-то сообщал, что в «центре» есть кукурузное масло, а оно помогает от гипертонии. А еще пенсионеры ездили на охоту и на рыбалку, ворчали на «москвича» старой марки, который постоянно надо ремонтировать. И еще три раза в день они разжигали и тушили примусы и, конечно, беспрестанно говорили о пище, а в оставшееся время с таким увлечением рассказывали друг другу о своих болезнях, что можно было подумать: без этих болезней жизнь их была бы неполной.
Лидка жила в восьмой, угловой квартире. Она была высокая, худая, белесая. Ей надо бы перекрасить волосы — они были цвета пересохшей соломы и еще больше портили ее некрасивое лицо. Но Лидка мало следила за своей внешностью.
Их двое во дворе, незамужних. Она и Галка Резникова. Галке тоже за тридцать. Она в вагоне-ресторане работает…
Галка жила во дворе богаче всех — комнаты сверкали полированной мебелью, а платья она меняла на день по два раза. Мужчин Галка тоже меняла часто. Она считала, что во дворе жить никто не умеет, кроме нее.
Если Лидка или кто-нибудь другой проходил по двору, никто на это внимания не обращал, но когда по узенькой кирпичной тропинке тонко цокали Галкины каблучки, начинали хлопать двери. А те, кто не выходил на балкон, прилипали к окнам, как мухи к липучке, и пялили на нее глаза. И Лидка тоже глядела из окна. А Галка, лакированная с ног до головы, катилась и блестела, как кристалл.
Мнения о Галке были самые различные, но каждый держал их при себе, и только один старик Петрович говорил вслух, что думал.
Петрович был совсем худой. Худее Лидки. Лицо у него обветренное и такое же потрескавшееся, как пальцы на руках. Двадцать пять лет провел он за баранкой, почти все машины водил — от «эмки» до МАЗа. По израненным фронтовым дорогам, по блестящему городскому асфальту, по пескам и бездорожью. Водил в жару. В дождь. В метель. И он привык говорить то, что думает. Это вошло в привычку.
— Ей, думаете, нужна красота? — вопрошал он. — Да на кой леший нужна была бы ей красота, если б не давала выгоду? Ну, правильно я говорю, чего молчите? — обращался он к собравшимся вокруг него.
Обычно его никто не поддерживал.
Лидка, когда видела лакированную Галку, чувствовала, что сердце стучит, как дятел, выдалбливая в груди невидимое дупло. Никогда не видела она такого внимания к себе, даже когда была совсем молоденькой. После детдома Лидка воспитывалась у чужих людей. Правда, тогда все было совсем иначе — небо казалось голубее, земля теплее и богаче, деревья красивей и таинственней, и каждый день душу переполняла радость новизны. В ней жило смутное ожидание счастья. Потом была война и трудные послевоенные годы. Лидка работала кондуктором, каменщицей, проводником на железной дороге.
А сейчас она — маляр. На работу ездит совсем в другую сторону Заркента, тоже на окраину. На трамвае, а потом двумя автобусами. На окраине возводится новый жилой массив, заркентские «Черемушки». Черемушки начинаются сразу же, как только трамвайная линия вычерчивает восьмерку. Совсем рядом с этой восьмеркой — гигантский башенный кран. Он стоит, тяжелый и серьезный, вытянув над незаконченным домом жирафью шею, словно придирчиво оглядывая свои владения. Скоро конец стройке, осталось возвести несколько зданий, и тогда шагать крану на другой жилой массив.
Утром над Хактепа — так называется новый район — не висит дымка, но часам к десяти потухшие вулканы стройплощадок оживают. Даже по запаху определить можно, что работа в полном разгаре. Хотя, чем вообще пахнет стройка? Да ничем, скажет посторонний. А для Лидки стройка — родная стихия. Как сизые волны расшумевшегося моря для моряка, как неизмеримая голубень неба для астронавта, как золотые колосья пшеницы для хлебороба…
Лидка берет трафарет, проводит по нему кистью. И происходит маленькое чудо — стена была белая, а сейчас уже цветом походит на луговую траву. На траву, омытую косым весенним дождем. Смотришь на стену, и улыбка невольно появляется на губах.
Зеленая стена пахнет не травой, краской. Но для Лидки это родной, волнующий запах. И все на стройке источает свой особый аромат. Олифой пахнет и известкой. Отсыревшими за ночь досками. Жженым кирпичом. Остывающим асфальтом у подъезда.
Лидка на третьем этаже работает. Сегодня их бригада кончает с домом. Один этаж остался — четвертый. А выше четвертого на массиве домов не строят. По сейсмическим соображениям. Выше четвертого этажа начинается небо.
Лидка прощается с небом и вздыхает. Сейчас домой надо ехать. А дома… Дома ее ожидают книги. Дома она мечтает и чего-то ждет. Ожидание счастья — это тоже, наверное, счастье. Но Лидка слишком долго ожидает его. Жизненная тропинка, по которой она шла, была светлой, но мертвой, словно блеск луны. На тропинке никто не появился. Она никого не встретила и никто не встретился ей.
Дворовые мальчишки любили Лидку и каждый раз, когда она возвращалась с работы, голоса их звенели, как горсть рассыпавшихся монет. Она приносила им раскрашенные книжки, переводные картинки, а малышам «сладких петушков», которых покупала у торговки на «зеленом» базаре. Она собиралась с ребятами вечером на скамейке у колодца и рассказывала им разные истории. Рассказывала с чувством, но иногда почему-то не хватало слов, и тогда она разбавляла их мимикой. Мальчишки хохотали, радовались, сердились вместе с ней.
Мальчишки! Нетерпеливые, как солнечные зайчики, они становились серьезными и задумчивыми, когда она хмурилась, и взволнованно замирали, приколотые к месту ожиданием интересной развязки.
Особенно привязалась она к соседскому Ваське, и он хозяйничал в ее комнате, как в своей. Васька жил без родителей, у тетки. Мать и отец его погибли в ленинградскую блокаду. Лидка знала, что Ваську подобрали солдаты. В широких, испуганных глазах мальчишки, казалось, застыла снежная тишина ленинградских улиц. Васька изголодался по ласке, как Лидка по любви, и когда она ласково погладила его по белесой головке и вздохнула о чем-то своем, Васька вдруг взглянул на нее, как ей показалось, странно, не по-детски задумчиво и серьезно.