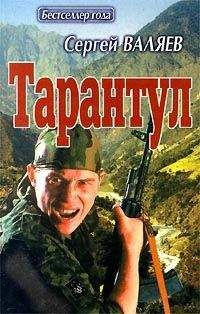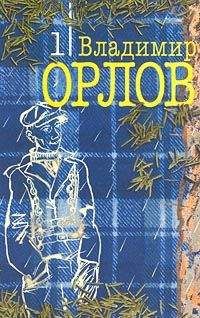Я имею право выжить и вернуться, чтобы жизнь у вас, хозяева жизни, стала ещё лучше. В перекрестье оптического прицела.
Знакомый кирпичный дом. Он по-прежнему монолитен и важен, как вельможный чиновник. В такой дом страшно ступить. Здесь живут небожители городка Ветрово. Их покой охраняет верный пес — швейцар дядя Степа. Он в модной камуфляжной форме спецназа и похож на сытого доберман-пинчера.
Как дела, дядя Степа? Все в полном порядке? Как печень? Хорошо? Где я был? Далеко, дядя Степа, за морями, за долами. А как Серов-младший поживает?
— Санька? Вчерась облевал меня, поганец, а сегодня — полтинник долляров в зубы. Кр-р-расота небесная.
Узнаю друга. Любит, клоп, жить красиво и красивые делать жесты. Вероятно, все также легок, беззаботен, франтоват, стихи кропает: «Пора отнять у большинства идею братства и родства и равенства уродство коль по нашей по стране ходим мы как по струне для какого же рожна широка моя страна».
… Я у знакомой двери, обитой дермантином. Утопаю кнопку звонка. Он разболтанно трещит. Шаркающие шаги, дверь скрипит — убийственный запах старого мирного клоповника. Полусонный Серов смотрит на меня. И не узнает.
— Ха, — говорит он после. — Леха, ты чего? Уже приехал?
— Приехал, — тут за его спиной продвигается тень; я настораживаюсь. Но потом понимаю, где я и с кем.
— Дай-ка я тебя… — душит в объятиях. — И не позвонил, друг мой ситный. Сюрприз, да?
— Бордель, — с трудом продираюсь по загроможденному коридору. — Как было, так и осталось.
— Окончательно погряз в разврате, — вздыхает мой товарищ, топая на кухню. — Валерия, поцелуй нашему защитнику отечества. Защитнику, в хорошем смысле этого слова.
Девушка Валерия профессионально улыбается. Она стюардесса, летает на международных рейсах, видимо, морально устойчива, свободно владеет несколькими иностранными языками.
Мы знакомимся. Я шаркаю ногой. Звенят бутылки. На широком подоконнике сухие корки мандарин. Сажусь за грязный стол. На нем радио, оно пережевывает жвачку последних новостей… Ничего не изменилось в этом мирном клоповнике. Лишь другая женщина стоит у окна.
— Как Валерия?.. Какие ноги… руки… И все остальное?
— Серов!
— Валерка, милая, у поэтов, как и политиков, нет запретных тем, — и лезет в холодильник. — Ты когда вернулся?
Я ответил. Проплыл сгусток искусственного холода.
— Валерка! Ты знаешь, кто перед тобой, — хлопает дверцей холодильника. — Нет, не знаешь? Это мой лучший друг Леха… Вместе с тем идиот. Романтик!.. Добровольно пошел на войну в нашу кавказскую Гренаду. Во дурь! А? Навоевался, Чеченец ты наш?..
— Серов, ты раздражаешь без штанов, — морщусь. — Ноги у тебя, брат…
— Чеченец, добрая кликуха, — смеется, хищно ломает мерзлый кусок колбасы. — И не трогай мои ноги, я ем миноги! — И громко чавкает.
Он так смачно это делает, что я не выдерживаю — смеюсь. И Валерия тоже. Поэт недовольно бубнит:
— Все вы… находитесь… в плену… плену морали… А я хочу жрать.
Ладит он это с большим удовольствием, и никакая сила не может его остановить. Серов-младший остается верным себе: что природой человеку дано, не стыдно…
Валерия не выдерживает физиологических упражнений с колбасой, уходит в комнату. Стихотворец вслед ей кроит рожи. Проглотив последний кусок, тянется ко мне, дышит перегаром, трется щетинистым подбородком о мою руку:
— Слушай, брат, я рад тебя видеть, веришь? И не в цинковом гробу… Страшно там?
Что я должен был ему ответить? Я сказал правду:
— Страшно.
Он взял грязный стакан, покрутил:
— Свои на своих, чудны твои дела, Господи, — наполнил стакан водкой. Давай за встречу.
— Нельзя.
— Автогробик? Цел «фордик»?
— И брюхо, — осторожно похлопал себя по животу.
— Накормили свинцом от пуза, — поднес стакан, к мятому, как бумага, лицу, продекламировал: — «Дело простое: убит человек, родина не виновата. Бой оборвется. Мерцающий снег запеленает солдата». — Хекнул. — За твое здоровье, Алеха.
По радио передавали невнятную музыку. По столу спешил раскормленный таракан. Серов поставил на него стакан:
— А сам-то убивал?
Что я должен был ему ответить? Я сказал правду:
— Убивал.
— Да-а-а, — сказал мой друг. — Не знаю, где лучше. А мы тут, как тараканы… друг друга… Хочешь бабу, Леха?
— Саныч, — снова поморщился.
— Валерия, ты где, блядюха небесная такая? Ходи сюда!.. — заорал нетрезво. — Я кому говорю!.. Ну, бабье, иго татаро-монгольское!..
Стюардесса не шла. Матерясь, мой друг тяжело зашаркал в комнату. А из окна тот же индустриально-производственный пейзаж: фабричные корпуса, прокопченное железнодорожное депо, рельсы, уходящие в вечную глубину темных и загадочных лесов.
— Убью! — услышал.
В сумрачной комнате наблюдался разгром. В глубоком старом кресле дергался Серов и орал, что любимое мамино блюдо разбито, что приходят в его дом, чтобы украсть любимые вещи мамы-покойницы, чтобы продать их и жить на вырученные деньги! И даже воруют не вещи, а память о ней!..
Валерия в истерзанной кофте, мятой юбке, рыдая, складывала в сумочку свою парфюмерную мелочь.
— Вот-вот, забирай! Все забирай! Грабь! Мне ничего не жалко! полоумно вопил мой товарищ.
Стюардесса повернулась ко мне:
— Уходите? Можно я с вами? — Я не хотел уходить.
— И валите!.. Чтобы духу твоего больше не было, подстилка аэрофлотская! — Серов бешено подхватился из кресла и слишком невротически шагнул к женщине.
Та, взвизгнув, спряталась за мою спину. Я привычно выставил локоть, как меня учили. Ошалевший товарищ налетел на него лицом, замер от боли и неожиданности, рухнул на пол.
Я почувствовал секундную брезгливость, подавил это чувство. Взял друга под руки, оттащил на диван. Валерия принесла мокрое полотенце.
Поэт застонал, приоткрыл глаза, трудно посмотрел на потолок, сбросил окровавленное полотенце:
— Кровь, корь, любовь. Не болейте корью. От этого можно умереть.
И, закрыв глаза, повернулся на бок, захрапел. Мы накрыли его пледом, как плащ-палаткой, и ушли.
В воздухе, постанывающем от артиллерийской канонады и осветленном чужим неустойчивым рассветом, кружили хлопья сажи. Сажа, смешиваясь с несмелым новым снегом, падала на стадо сожженной техники. А под разрушенными стенами, в руинах, лежали те, кто верил, что выполняет свой конституционный долг, те, кто остался жить вечно в декабре, те, кого так бездарно и зло предали. По приказу майора Сушкова мы накрыли их плащ-палатками. Плащ-палаток на всех не хватило.
Только вера бесплатна. Бесплатных предательств не бывает.
У двери в дом небожителей по-прежнему бодро дежурил швейцар дядя Степа. В облеванных моим другом галифе. Он по-своему был счастлив, дядя Степа, ему можно было позавидовать. Валерия шмыгнула мимо него, как птица, прятала заплаканное лицо.
Я остановился у машины. Стюардесса наткнулась на меня. Я повернул ключ, открыл дверцу, пригласил женщину в салон джипа.
— Куда?
— Домой, — ответила.
Я вырулил на единственный наш центральный проспект имени Ленина, если это дорожно-разбитое, как после бомбежки, недоразумение можно было назвать проспектом. Молчал. О чем говорить? Тем более губы моей пассажирки были заняты, она их подкрашивала помадой. Розовой, как птица фламинго. После опустила ветровое стекло, щурилась от воздушного потока, лицо её было старым и некрасивым.
— Солидная тарахтелка, — сказала она. — Как самолет. Откуда?
— Отчим. Подарок.
— А-а-а, — закурила.
Горький дым Отечества.
— А ты и вправду чеченил? — покосилась в мою сторону; в зрачке отражался цинковый мирный день.
Я ничего не ответил.
— Я думала — треп.
— Куда? — повторил вопрос.
— Время есть?
Я пожал плечами — разве можно спрашивать у нищего в долг?
— У меня Санька, сын, в детском саду. Два выходных — хорошо… Погуляю с детенышем.
По узким и грязным дворам, забитыми баками с пищевыми отходами, мы проехали к месту. Сад был огорожен высокой оградой защитного цвета, и сквозь эту ограду и кусты пестрели детские одежды. Дети громко играли за забором. Надо полагать, мальчишки играли в войну.
Как-то мне приснился сон, странный сон, я его запомнил: горела пустыня. Спасения не было, но мы в БМП верили — кто-то потушит эту атомную вселенскую коптилку. Верили до последнего. Затем раздался голос одного из нас, голос был настолько изменен страхом, что было непонятно, кто кричит:
— Я не хочу! Не хочу подыхать в этой консервной банке!
Мы натянули противогазы. С трудом приоткрыли люк. Тот, кто кричал, прыгнул на песок. Песок был спекшийся. Он лопался под ногами, как стекло. Мы шли по пустыне, как по стеклянному озеру.
Первым не выдержал тот, кто кричал. Он сорвал с лица противогаз. Его никто из нас не узнал. Он глубоко вздохнул и повалился на песок. Лицо, незнакомое нам, улыбалось улыбкой счастливого мертвого человека.