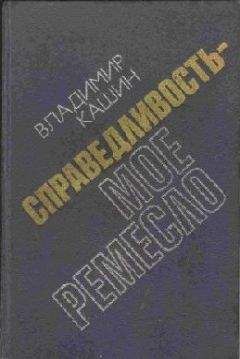— Дети… да… дети. Это очень существенно, — сказал Андрей Гаврилович, отпустив руки Кэтрин. — Возможно, я не знаю, что такое дети. Я их не имел… Вот мы были детьми… Впрочем, было ли у нас детство… Оно быстро оборвалось… А твои уже взрослые… Они и без тебя стоят на ногах…
— Для матери дети всегда маленькие.
— Как же нам быть теперь? — грустно и растерянно спросил Андрей Гаврилович. — Неужели снова разлучимся, уже навсегда?
Кэтрин ничего не ответила, только вздохнула.
Так и стояли некоторое время молча друг против друга.
— Я не знаю, Андрейка, — наконец жалобно произнесла Кэтрин и прикоснулась рукой к его седеющим кудрям.
На кухне зашипел газ — выкипал чайник.
— Проводи меня, — попросила Кэтрин.
Пока он бегал на кухню, она надела свои пыльник.
…К гостинице добирались молча. Возле входа в вестибюль Андрей Гаврилович поцеловал ей руку. Горло у него сжало так, что не смог вымолвить и слова…
Через несколько дней после происшествия в парке Коваль возвращался от Ружены не в настроении. Наталка догадалась об этом, еще когда отец только приближался по дорожке к дому: она по шагам всегда узнавала, что у него на душе.
Отложила книгу, настороженно прислушалась. Она нервничала. С каждым днем ей все тяжелее было жить в атмосфере неопределенности, которая воцарилась в родном доме. У нее было такое чувство, словно все они втроем находятся в невесомости и никак не могут опуститься на твердую почву. Конечно, появление Ружены сняло с ее плеч заботу об отце, беготню по магазинам, приготовление завтраков и ужинов — обедал Коваль в министерской столовой или где придется. Но все это Наташа воспринимала без особой радости, даже с каким-то ревнивым чувством. Теперь ей уже казалось, что приготовить для отца еду никогда не было тяжелым делом, что это не отрывало ее от учебы. Да и сможет ли Ружена испечь такие блины, как она…
Когда-то у нее с отцом были вечера откровенности. Садились рядышком на диване в кабинете и открывали друг другу душу, как две закадычные подружки.
Такие вечера откровенности не были регулярными, все зависело от свободного времени отца, да и от настроения самой Наташи.
Теперь же эти доверительные беседы совсем прекратились…
Отец прошел на кухню. Наталка услышала, как полилась там вода. Догадалась: моет руки. Но кто накормит его ужином? Поднялась со стула и, преодолевая внутреннее сопротивление, вышла из своей комнаты и направилась тоже на кухню.
Отец сидел за столом на табурете напротив окна и, казалось, следил, как распластывает свои крылья вечер. На столе перед ним ничего не стояло: возможно, поужинал у Ружены.
— Будешь пить чай? Или покушаешь? — по привычке все же спросила Наталка.
— Нет. Я уже ел.
Он не повернул голову к дочери, продолжал задумчиво смотреть на потемневший шатер неба, на котором вот-вот должны были вспыхнуть звезды.
Наталка взяла второй табурет и села рядом.
У отца был усталый вид, морщинки на лице углубились.
Щемящая боль сжала сердце девушки. Ей стало жаль его: может, это по ее вине он так плохо выглядит…
Коваль словно угадал ее мысли, положил большую грубоватую руку на пальцы дочери, погладил их.
— Дик, — проглотив комок в горле, произнесла Наталка, — нам нужно поговорить откровенно. Мы давно с тобой не поверяли друг другу…
Коваль улыбнулся.
— Кажется, так… Действительно, давненько. — Он еще раз погладил руку дочери. — Очевидно, не было необходимости… Или желания… — добавил после паузы. — Я теперь совсем не знаю, как идут твои дела, как учеба…
— Я не об этом.
Воцарилось молчание. Его нарушила Наталка:
— Ты не боялся за нее, когда она пошла навстречу тому негодяю?
Дмитрий Иванович ответил не сразу. Он понимал, почему дочь спрашивает о том вечере.
— Да, боялся.
— Я так и думала, — с легким оттенком зависти в голосе произнесла Наташа. — Она смелая, и ей посчастливилось… Ведь ты ее любишь… Так, папа?..
— Да, — чуть улыбнулся Коваль. — Ты хочешь от меня полной исповеди?
— Нет, я просто констатирую.
— Да, — повторил Коваль, и Наташа поняла, что это подтверждение относится в равной степени и к тому, что Ружена смелая, и к тому, что он ее любит.
— И она тебя?
— Кажется. — Дмитрий Иванович снова улыбнулся, радуясь этим наивным, по-детски непосредственным вопросам уже взрослой дочери.
— Ну что ж, — вздохнула Наташа и как-то странно взглянула на отца. — Знаешь, я думаю… что так не годится…
— Ты имеешь в виду…
— Не годится, чтобы она по ночам ходила одна… Ведь ты не всегда можешь проводить ее домой…
Глаза Дмитрия Ивановича радостно заблестели. Он уже понял, к чему клонит разговор дочь.
— В конце концов, нужно что-нибудь придумать. Ты — тут, она — там… Разве это жизнь? И какой ты рыцарь, мужчина, если не можешь найти выход из положения? Я за такого замуж не пошла бы!
Коваль надеялся, что сейчас дочь предложит свое решение наболевшей проблемы.
Но Наталка вдруг поднялась, поцеловала его в щеку и со словами: «Доброй ночи. Я еще немного почитаю и тоже лягу», — направилась в свою комнату.
* * *
В воскресенье обедали вместе. Ружена, как всегда, когда за столом собиралась вся их небольшая семья, на правах хозяйки с удовольствием ухаживала за мужем и Наталкой, не позволяя девушке подниматься и бегать на кухню.
Воскресный стол украшала бутылка мартини и хрустальные бокалы. За награду, полученную Руженой от министра внутренних дел, уже выпили. Когда Дмитрий Иванович наполнил бокалы вторично, Наталка неожиданно сказала:
— А теперь выпьем за мое будущее новоселье!.. Я хочу поменяться с вами, Ружена, и переехать в вашу квартиру… Если, конечно, вы не против… А вы — сюда…
Коваль взглянул на жену. Теперь все зависело от нее.
Ружена молча подняла свой бокал. Дмитрий Иванович понял ее и без слов: она согласна с предложением Наташи и очень довольна, что девушка сама сказала об этом. Для всех троих такой вариант был самым приемлемым, но до сих пор никто первым не решался его предложить.
— Вот за это мы, безусловно, с удовольствием выпьем, — произнес Коваль, чокаясь с дочерью.
Домой Дмитрий Иванович приехал троллейбусом. От остановки идти было каких-нибудь триста — четыреста метров.
Сегодня подполковник не торопился. Медленно миновал девятиэтажный дом и через заасфальтированный двор вышел к домику, который словно улитка прятался между высокими новостройками.
Дмитрий Иванович постоял немного на улице. Почти все окна нового дома были раскрыты, свежий ветерок колыхал гардины. В одной из квартир отмечали какое-то событие, и разноголосая песня тревожила улицу.
Подполковник не захотел проходить в свой двор через калитку: хруст гравия под подошвами привлечет внимание Ружены и Наташи, а он сейчас не был готов к встрече с ними. Остановился возле забора, отгораживавшего его двор от соседнего, нащупал трухлявую от времени и непогоды доску, которая еле держалась на одном-единственном гвозде — все не находил времени прибить, — и, отодвинув ее в сторону, оглядевшись, словно вор, пролез в свой сад. Вышел на дорожку и сел на любимую скамейку. Вокруг было тихо. Пение из высокого дома доносилось, сюда приглушенным: в саду были слышны даже трели сверчков.
В окнах его небольшого домика горел свет: в кабинете и в спальне. Кто сидит в его кабинете: Ружена или Наталка? Наверное, Наталка. Дочь никогда не переступала порог спальни. Эта комната была запретной столько лет, и теперь, когда Ружена переезжает сюда, комнату придется долго проветривать, сушить, возможно, надо будет переклеить и отсыревшие обои.
Мысли его перенеслись к семье Томсон. Да, русановская трагедия не оставляет его ни на миг. Но почему в последнее время он особенно много думает о Кэтрин и ее дочери? Ведь они только свидетели, на свою беду случайно оказавшиеся на месте происшествия. Возможно, мысли о своей семье по какой-то ассоциации напоминали о другой, о сестрах Притык, которых война разбросала в разные стороны и сделала чуть ли не чужими.
Дмитрий Иванович обвел взглядом сад. От освещенных деревьев ползли крученые узловатые тени. На дорожках, там, где обрывались светлые полосы окон, господствовали лунные отблески, и Коваль засмотрелся на борьбу электрического света с золотым лунным сиянием. Когда луна пряталась за тучку, тени укорачивались, сплетались в клубки и исчезали. Но едва отступала темень, на земле, словно на проявляемой фотобумаге, появлялись снова очертания веточек, кустов, деревьев…
Деревья напоминали Ковалю почему-то людей, и ему подумалось, что он наблюдает сейчас вечную борьбу света и тени, добра и зла, которая среди людей иногда приобретает очень жесткие формы. Он всю жизнь восставал против зла и несправедливости. И не только по долгу службы. Бывало, уставал от многоликой несправедливости — только справится с ней в одном месте, как она показывается в другом, прикинется твоей благородной сестрой, да так, что не сразу поймешь, где правда, а где ложь. Но он хорошо знал, что правда, когда ищет дорогу к людям, сама становится материальной силой. И это укрепляло его веру в победу добра над злом.