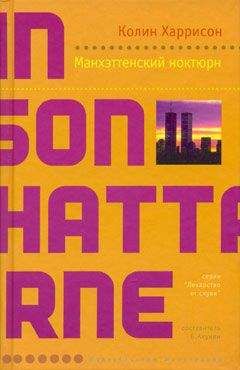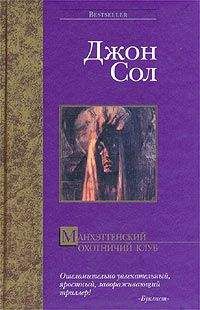Мои слова, казалось, отдавались эхом в темноте. Возможно, лучше было бы сказать, что мой рассказ в конце концов отравил наше вождение, но это было бы неправдой, а репортер обязан говорить правду. Кэролайн уселась на меня верхом и, ритмично двигаясь, по-видимому, задалась целью доказать, что никакие истории о женах, замерзших пьяницах и мертвых младенцах не могут притупить ее половых потребностей. И в этом отношении я воспринимал ее как свою учительницу. Я нисколько не сомневаюсь, что если бы на стенах спальни возникали картины Холокоста, полные грузовики изнуренных тел землистого цвета, как попало сброшенные в братские могилы трупы, я все равно без зазрения совести овладевал бы ею, а на моем лице выражалось бы при этом удовлетворенность и торжество. Быть может, это превращает меня в отвратительного безбожника. Но я так не думаю. Потому что я считаю, что, когда мы занимаемся сексом, пространство нашего воображения всегда наполняется телами, медленно и скорбно соскальзывающими в братскую могилу времени. Да, в этом я уверен. Эти тела всегда там; они – люди за стенами комнаты и ушедшие люди, грядущие люди, наши родители и наши дети; они – наши потерянные в юности «я», наши сиюминутные «я» и «я» завтрашнего дня, и все они обречены.
Мы в изнеможении откинулись на постель.
– Я – всё, – сообщил я ей. – Ухайдакался.
– Пыл иссяк?
– Нет, завод.
Она встала, провела щеткой по волосам, задержавшись у туалетного столика, и взяла наши стаканы.
– Проголодался?
– Да.
– Пойду приготовлю что-нибудь. – И она вышла из комнаты.
Было уже около восьми. Лайза наверняка укладывает детей спать и ждет моего звонка. Но я не был к нему готов. Голос мог меня подвести. Возможно, стоило выпить, а может быть, и нет. Но было тут и кое-что еще. Если вы репортер, то вам приходится разговаривать с тысячами незнакомых людей. Одни разговоры проходят легко, другие выматывают все душу. Но в удачном интервью всегда наступает четко уловимый момент, который, как я уже говорил, можно назвать моментом откровения, когда говорящий раскрывается. Собирался ли я брать интервью у Кэролайн? В некотором смысле да. Момент откровения приближался, я это чувствовал. Я знал, что теперь, когда я разговорился, она тоже заговорит. Именно поэтому люди и откровенничают друг с другом. Им хочется, чтобы о них знали. История – это что-то вроде валюты. Если ты расскажешь что-нибудь, то и в ответ почти наверняка услышишь какой-нибудь рассказ. Я не хотел звонить Лайзе, потому что боялся все испортить с Кэролайн; либо она нечаянно услышит телефонный разговор, либо, положив трубку, я буду подавлен сознанием вины. Шанс будет упущен, и, может быть, навсегда.
Но кое-какие звонки я вполне мог себе позволить. Я поднял трубку телефона, стоявшего рядом с постелью, и набрал номер Бобби Дили, который только что заступил на ночное дежурство.
– Что слышно? – спросил я.
– Горит здание в Гарлеме, тревога первой степени, женщина утверждает, что у нее сгорел сандвич с жареным сыром. – Его голос звучал монотонно и скучно. – Мужчина забыл змею на автобусной остановке у собора Святого Патрика. Коп ранен в ногу в Бронксе. Несколько нубийцев арестовано как вызвавшие подозрение. Так, посмотрим, что дальше. Два парня из Нью-Джерси набросились на двух гомосексуалистов в Виллидже, обозвав их «педиками», а те здорово им врезали. Да, вот еще, в одной частной лечебнице девица, пролежавшая в коме лет двадцать, оказалась беременной.
– Изнасилована?
– Точно. Дело в том, что у нее глаза движутся. Следят за теми, кто находится в палате.
– Какой-то парень изнасиловал женщину в коме, а она, может быть, все еще следит за ним?
– Там все забито телевизионщиками.
Я вздохнул:
– Что еще?
– В Рокфеллеровском центре в отделе паспортов арестован философ с ножом.
– Что еще за история?
– Это произошло в очереди за срочным оформлением паспортов, – ответил Бобби. – Этот малый хотел рвануть из Соединенных Штатов. Страна, которая катится в тартарары, не может стоять в одном ряду с другими.
– Дальше.
– На скоростной автомагистрали Вайтстоун найден труп.
– На или рядом?
– На.
– Передозировка наркотика, в машине?
– Верно.
Кэролайн вернулась в комнату с двумя бутылками красного вина и двумя стаканами.
– Есть еще что-нибудь? – с надеждой спросил я у Бобби.
– Считай, что завтра первая полоса твоя.
– Дневник Ланкастера.
– Да, где ты раздобыл его?
– Один тип увел его у Ланкастера. – Я взял одну из бутылок. На ней все еще красовался ценник. Сорок пять девяносто пять.
– Тут еще приятный пустячок, – сказал Бобби.
– С дневником, что ли?
– Нет, тебе звонил Фицджеральд.
– Он дома?
– Да.
Я позвонил Хэлу.
– Мы согласны на твои условия, – сообщил он.
– Это решено?
– Да.
– Никаких свидетельских показаний, никаких упоминаний об источнике информации, ни слова об этой истории в первые двадцать четыре часа.
– Согласен.
– Я закину кассету в твою контору завтра утром.
– Отлично, – сказал Хэл. – Так в чем там дело?
Я рассказал. Хэл оживился:
– Ну, знаешь ли, это грандиозно!
– Конечно, Хэл.
– Ты уверен, что это Феллоуз?
– Парк Томпкинс-сквер. Громилы дрались с копами. Полицейский Феллоуз стоял у края тротуара. Высокий негр лет тридцати. Где-то за парком пускали фейерверки. Феллоузу здорово врезали сзади, преступник смылся, толпа хлынула мимо тела, копы заметили его и оттеснили толпу. Остальное ты знаешь.
– Я сейчас пришлю машину за кассетой.
– Нет.
– Это самое простое.
– Я не дома.
– А где?
– Не важно!
– Мы можем прислать машину и туда.
– Последовала пауза, пока до него доходило, что я не собираюсь распространяться на эту тему.
– Завтра утром, обещаю.
– Первым делом!
– Считай, что пленка у вас.
– Спасибо, Портер.
Порядок. Я положил трубку, потому что Кэролайн вернулась в комнату, неся поднос с горячим супом и хлебом. Обнаженная женщина с серебряным подносом в руках.
– Есть новости? – спросила она.
– Еще какие!
Она поставил поднос:
– «Еще какие» – это хорошо?
– Иногда.
– А я думаю, что всегда.
– Маленькая проблема лучше, чем большая.
– Пожалуй. – Она протянула мне миску. – Звонил кому-нибудь?
– Да, в полицию.
– Зачем?
– Поболтать.
– Обо мне?
– Нет.
– Честно?
– Честное слово, нет.
– Ты меня не выдашь?
– А разве есть за что?
– За правонарушения, разумеется.
– И за какие?
– Ну, например, за непристойные выражения.
– Ни одного не слышал.
– Ты просто не слушал.
– Я слушал все, что ты говорила, и помню каждое слово.
– В самом деле?
Я глотнул немного супа.
– Можешь проверить.
– Что первое я сказала тебе сегодня вечером?
– Ты сказала: «Сейчас приготовлю тебе чего-нибудь выпить».
– А что последнее я сказала тебе вчера по телефону?
– «Заканчивай свою колонку».
Она покачала головой:
– Это какой-то ужас.
– Вовсе нет.
– А не припомнишь ли самые первые слова, которые я тебе сказала?
Это было уже чуточку труднее. Я вспомнил вечеринку у Хоббса и то, как Кэролайн прошествовала через всю комнату, направляясь ко мне, и села рядом.
– Вы паршиво выглядите, мистер Рен, – вот что ты сказала.
– Неужели?
– Точно.
Дальше мы ели молча, а потом поставили тарелки на пол.
– Мы еще никогда не проводили столько времени вместе, – сказала она.
– Да.
– Это здорово.
– А что делала ты, – спросил я, – когда я был начинающим репортером и написал о том младенце в трейлере?
– Наверно, мне тогда было лет девять, – ответила Кэролайн, допивая свой стакан. – Мы жили в Южной Дакоте. Моя мать забеременела мною, когда ей было семнадцать. Она из Флориды и как-то зимой переспала с мальчиком из богатой коннектикутской семьи, который проводил там каникулы. Жениться он не захотел, и она осталась жить со своими родителями, а потом, через пару лет, она познакомилась с этим пугалом Роном Гелбспеном, дальнобойщиком. Потом они переехали в Южную Дакоту, и у них родился мой брат. Сначала у меня была девичья фамилия матери, затем она заменила ее фамилией моего отца – Келли, а потом еще раз поменяла ее, выйдя замуж за Гелбспена, которого я ненавидела. Я всегда считала себя Келли. Мне и в голову не приходило менять свою фамилию на Краули. Иногда я думаю, что если я выйду замуж за Чарли и возьму его фамилию, то у меня будет пять фамилий, а это уже просто смешно. Полагаю, что через некоторое время фамилия вообще перестает иметь значение. Как бы то ни было, а моя мать работала в «Визе».[8] Она целыми днями сидела на телефоне, рассказывая людям о предоставляемых ими кредитах. Мы жили в маленьком домике милях в десяти от города. Я получила два письма от своего настоящего отца, последнее пришло, когда мне было около десяти лет – ну, да, так оно и было. А Рон был просто сумасшедший, он хотел стать владельцем компании, занимающейся дальними перевозками грузов. Он, видите ли, пытался заняться бизнесом. Совершенный псих. У него дома был алтарь Джекки Онассис, этакий уголок, где он собрал уйму книг о ней и ее фотографий. А еще у него было множество ружей, особенно дробовиков. Он поколачивал нас, а однажды, когда мы катались на катере, он швырнул брата за борт. – Она снова наполнила стаканы, сначала свой, потом мой. – Ну, как бы то ни было, а к тому времени, когда мне стукнуло лет, наверно, восемь, я захотела иметь лошадь, так захотела, ну просто до смерти. Некоторые девчонки в то время уже катались верхом, и мне тоже понадобилась лошадь. При общении с Роном надо было знать одну важную вещь. Я приспособилась изводить его этой лошадью, и… – Она сделала паузу. Ее голубые глаза сверкнули. – Ну, в общем, это не сработало. В школе у меня были приятели и все такое, но я принялась расспрашивать мать о своем настоящем отце – кто он, где он, ну и все остальное; сначала она не хотела говорить, но я не отставала, и она сказала, что, кажется, он жил в Санта-Монике, в Калифорнии. Это звучало для меня как музыка. Санта-Моника, Калифорния. Я отрастила длинные, очень длинные волосы, где-то до середины спины; и мама, и брат, и сестра, и Рон были шатенами; поэтому я спросила маму, как выглядит мой отец. Она ответила, что он – блондин с голубыми глазами; он не попал во Вьетнам, потому что у него был сколиоз позвоночника, этого оказалось достаточно, а может, врачу заплатили, чтобы он поставил такой диагноз. Его отец был руководящим работником «Этлэнтик ричфилд ойл кампени» здесь, в Нью-Йорке, ну, знаешь, это прежнее название ЭРКО. Когда мне исполнилось восемнадцать лет, ему должно было быть около тридцати семи. Мама не видела его почти пятнадцать лет. Я спросила ее, скучает ли она по нему, и она сказала, что ей интересно, как сложилась его жизнь. Она рассказала мне, какой необыкновенной красавицей была его мать, и с таким же фасадом, как у меня. Моя мать была такой забитой. Целыми днями она отвечала на вопросы о кредитах. Я сказала ей, что хочу поехать навестить своего папочку, и спросила, есть ли у нее номер его телефона в Санта-Монике. Она не знала его телефон, а вот его сестра в Нью-Йорке вполне могла знать. И летом после окончания двенадцатого класса я отправилась автобусом в Лос-Анджелес.