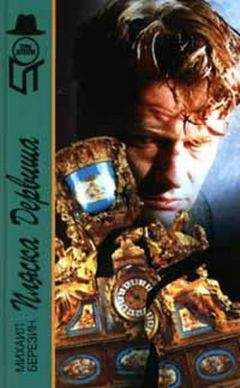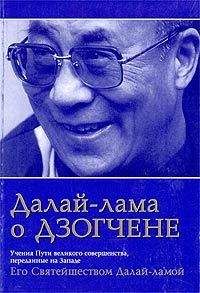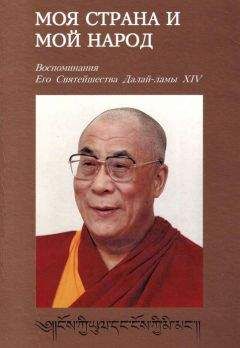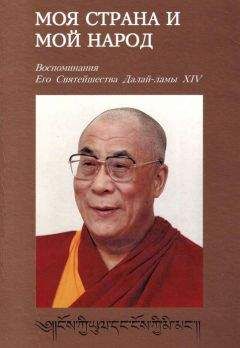Остановились на пятистах.
– Один знакомый художник сказал мне, что какой-то русский работал рядом с ним в парке рядом с музеем Кино.
– Ты знаешь, где это? – поинтересовался я у Изабель.
Она утвердительно кивнула:
– Конечно.
– А как зовут художника?
– Бертран Шевалье.
Все же сначала мы дождались приезда Шидловского и Абу Бабу и убедились, что все прошло гладко. Анри получил очередную порцию денег, по-видимому, даже не подозревая, чем он при этом рискует, и наши противники удалились довольные. А мы помчались к музею Кино.
– Бертран Шевалье? – проговорила Изабель, обращаясь к молодому парню с такими же, как и у Анри сережками в ухе. Однако тот отрицательно замотал головой и указал на другого художника, расположившегося рядом с фонтаном.
– Бертран Шевалье?
Тот с испугом посмотрел на нас.
– Oui.
Изабель сослалась на его приятеля Анри и принялась задавать вопросы. Очевидно, чары мадемуазель Демонжо подействовали на беднягу, поскольку он даже не стал требовать денег. Впрочем, он не сказал ничего особенно интересного.
Да, какой-то русский художник по имени Лион действительно работал здесь с недельку. Но вот уже третий день как он не появляется. Была ли фамилия художника Козираги? Нет, фамилии он не знает, но может нарисовать, как тот выглядел.
Уверенными движениями, в несколько штрихов, он набросал на бумаге портрет.
– Похож? – обратилась ко мне Изабель.
– А черт его знает. – Я повертел рисунок в руках. – Ладно, выясним… Послушай, я хочу заказать Бертрану твой портрет, он здорово работает.
– Не сочиняй, – отмахнулась она. – Ты не такой богатый.
– Причем здесь я? – Последовал широкий жест рукой. – Голдблюм заплатит. Ты ведь не обязана помогать ему бесплатно.
На прощание я попросил Бертрана Шевалье позвонить мне в «Сент-Шарль», если русский Лион снова объявится. В гостинице я факсом отправил полученный у него рисунок Голдблюму. Через час от того последовал ответ: Черемухин без труда опознал на рисунке Козираги.
Ночью я спал плохо. Постоянно ворочался с боку на бок. Стоило задремать, как тут же мерещился Абу Бабу с ножичком в руках, и я в холодном поту просыпался. Хорошо еще, что Изабель у меня не осталась.
На следующее утро без пятнадцати десять мы с Изабель подкатили к автобусной площадке возле версальского дворца. Здесь также, как и на Монмартре, околачивалось много негров, только продавали они преимущественно не искусственных голубей, а проспекты с видами Парижа.
Десять часов ровно: Абу Бабу и Шидловского нет.
Половина одиннадцатого: их нет.
У Изабель была «Симка» белого цвета. Мы отъехали в сторону, и я решил пойти на разведку. Дело в том, что дворец имел площадку не только с внешней стороны, но и с внутренней. Возможно, они шастают где-то там.
На всякий случай я надел темные очки и нахлобучил на голову берет, хотя погода была теплая. Медленно продвигаясь вперед, я нырял в одну экскурсионную группу за другой, и, наконец, достиг внутреннего двора. Здесь их тоже не было.
Я оперся о парапет. Фонтаны не работали. Центральная аллея парка уходила вдаль, теряясь в зелени. Я решил немного пройтись. И метров через сто наткнулся на Козираги. Вот тебе и на! Кто бы мог подумать? Тот сидел на каменной скамейке с мольбертом в руках, а рядом красовались два портрета с деформированными головами. Видимо, деформированные головы являлись его фирменным стилем.
– Привет, Лион, – сказал я и уселся рядом.
Он настороженно покосился на меня.
– Есть разговор.
– Вы от Шидловского?
– Боже упаси!
– Но вы знаете, кто он такой?
– К сожалению, да. И его, и Абу Бабу… Кстати! – спохватился я и завертел головой. – Давайте перейдем куда-нибудь в более укромное местечко. В целях безопасности.
Мы отыскали деревянную беседку, увитую плющом, и скрылись внутри. Я вкратце изложил ему суть дела. Естественно, он мне не поверил. Пришлось долго его убеждать. Благо у меня оказался с собой экземпляр «Европы-Центр» с нашим объявлением.
– Я ведь был у каждого из них! – в сердцах воскликнул Козираги. – Но они даже не захотели со мной разговаривать!
– Вы не были у Голдблюма, – уточнил я.
– Да, – согласился он, – не был.
И тут за нашими спинами раздался шорох. Охваченный нехорошим предчувствием, я резко обернулся и лицом к лицу столкнулся с Шидловским и Абу Бабу. Конечно, не стоило удивляться, я ведь даже заплатил деньги, чтобы они оказались сегодня здесь. Неблагодарный Абу Бабу уже занес надо мной ножичек. Я отскочил в сторону.
– Ха-ха! – гортанно произнес Абу Бабу.
– Аба, подожди, – бросил ему Шидловский. С близкого расстояния я разглядел его лучше. Короткие, густые волосы, очень бледная кожа, надменное выражение лица. – А мы было уже подумали, что Анри нам соврал.
– Какой Анри? – заплетающимся языком спросил Козираги.
Абу Бабу подошел к нему и взял за руку.
– Ленчик, не беспокойся, – проговорил Шидловский. – Мы тебя не тронем.
И в этот момент я саданул нервно-паралитическим. Целился я в Абу Бабу, но Козираги стоял рядом, и они оба тут же свалились на землю. Шидловский же находился в стороне и совершенно не пострадал. Поскольку один заряд я израсходовал еще в Берлине на Сыркиных, мощные патроны у меня закончились. Я попробовал достать Шидловского слезоточивым, но не тут-то было. Тот мигом сориентировался, отвернулся и закрыл рукой глаза. Потом ногой ловко выбил у меня револьвер.
Можно было ожидать, что сейчас завяжется драка, но дело ограничилось лишь тем, что каждый схватил Козираги за руку и потянул в свою сторону. При этом в тушу Абу Бабу Шидловский упирался ногой.
Так пыхтели мы минуты две-три, пока в пиджаке у Шидловского не раздался телефонный звонок. Не отпуская Козираги, одной рукой он извлек из кармана аппарат и прохрипел:
– Слушаю.
Я воспользовался ситуацией, чтобы изо всей силы потянуть Козираги на себя. Шидловский дернул в ответ, нас развернуло, и теперь уже я упирался ногой в Абу Бабу.
– Ты уверен? – обескуражено проговорил между тем Шидловский. И через несколько секунд: – Черт побери!!!
Потом он неожиданно бросил Козираги, и я завалился в угол беседки, увлекая гения за собой.
– Бери его, он твой, – процедил Шидловский сквозь зубы. – Этот собака Голдблюм все же откопал настоящего художника. А тебе он, естественно, не заплатит ни шиша. Так что ты тоже пролетел, как фанера над Парижем, – он сделал движение руками, как бы охватывая ими весь Париж, – правда не так сильно, как я.
Пошатываясь, я поднялся на ноги.
– С чего это ты взял?
– Сорока на хвосте принесла. Ну, я пошел.
Он двинулся в направлении главной аллеи.
– Погоди, – остановил я его. – Напиши записку своему марабу, чтобы он не трогал нас, когда очнется.
– Еще чего! Пусть он переломает вам все кости.
С этими словами Шидловский исчез.
Я с опаской покосился на Абу Бабу. Иди знай, кто из них раньше придет в себя. Пришлось накрепко связать тому руки и ноги.
Потом я положил голову Козираги себе на колени.
Я знал, о чем сообщили Шидловскому по телефону. Еще вчера утром я попросил Голдблюма дать во всех газетах объявление, что художник нашелся и с ним уже заключен контракт. Голдблюм не хотел, ведь это было явным надувательством. Однако мне удалось убедить его в том, что это не надувательство, а только небольшое предвосхищение событий.
Я внимательно вгляделся Козираги в лицо. На нем застыла страдальческая гримаса. На лбу проступили капельки пота.
«Пришла беда, откуда не ждали», вспомнилось мне. А что же все-таки он имел в виду? Сам не знаю почему в памяти всплыло все, что мне рассказывал о нем Черемухин…
До начала перестройки Козираги работал в худфонде. Приблизительно раз в году получал крупный заказ по оформлению детского садика или дома отдыха, и денег, заработанных при этом, хватало на весь год. В роскоши, естественно, не купался, зато был предоставлен самому себе, и занимался, чем хотел. Писал картины, стихи. Правда, официальным признанием не пользовался, к выставкам допущен не был, стихи тоже не издавали. Варился в собственном соку. Общался с такими же «отщепенцами», выпадавшими из русла «здоровой социалистической культуры».
Мечтал о дальних путешествиях, объездил всю Среднюю Азию и Дальний Восток. Однако его манили Венесуэла и Южно-Африканская Республика, Таити и Мадагаскар, и тут он уже ничего не мог поделать, этот мир для него был закрыт.
Несколько раз серьезно влюблялся, но жениться так и не довелось: слишком призрачной и эфемерной казалась ему его жизнь. К тому же он был поставлен в такие рамки, когда приходилось выбирать: либо женитьба, либо творчество. Отчаявшись, женщины уходили, в ответ на это рождались стихи, пронзительные как собачий вой.
И вот, наступили новые времена. Сначала робко, а затем все увереннее заговорили в голос те, кто раньше хранил гробовое молчание. Козираги воспрянул духом. Его приняли в Союз художников, позволили участвовать в коллективных выставках и даже организовывать персональные, напечатали в журнале несколько его стихов. Настала эра Свободы.