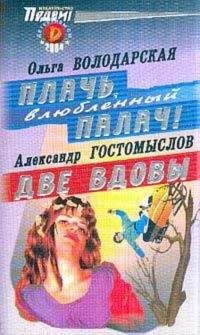На этом месте повествование оборвалось.
— Почему она замолчала? — всполошилась Сонька.
— Кассета кончилась, — догадалась я, — надо ее перевернуть.
— Извините, девочки, дальше я вам прокрутить не могу, — развел руками Юра. — Запротоколированный допрос обвиняемого не подлежит огласке. Тайна следствия, сами понимаете…
— Но вы же только что… — я даже дар речи потеряла от разочарования. — Только что дали нам послушать… И не было никакой тайны…
— Я дал вам послушать ее болтовню, которая по существу, к делу не относиться… Нам до того преступления дела нет, преступник все равно уже в морге, замечу, без гениталий и пальцев… Мы позволили ей столько трепаться только затем, чтобы она не замкнулась, не ушла в несознанку… Эта кассета может пригодиться ее адвокату, но нам она без надобности. А вот следующая, на которой записан ее рассказ о том, как она убивала Галича, и тех двух женщин, это другое дело…
— А как она их убивала? — робко спросила я.
— Галича заманила на задний двор запиской, часть которой вы умудрились прочесть, и содержание которой мы, милиция, знаем только с ваших слов…
— Не отвлекайтесь, — строго сказала я. — Заманила запиской и…
— Когда он пришел, тюкнула камнем по голове, оттяпала причиндалы, потом перерезала горло, сбросила тело в яму, закопала. Все!
— А Катю?
— Скинула с балкона, вы же видели…
— Но зачем?
— Она увидела то, чего не должна была видеть. — Юра задумчиво поскрябал щетинистую щеку, не иначе решал, говорить или нет. На наше счастье, решил сказать. — Ганец спустя пару дней разрыла могилу Галича.
— Она еще и некрофилка! — ахнула я.
— Дело не в этом. Просто до нее на третьи сутки дошло, что записка, которую она Галичу прислала, и которая, по сути дела, была единственной против нее уликой, осталась у него в кармане. Надо было ее срочно изъять. Что она и сделала. За этим занятием ее застукала Катерина, которой в ту ночь (а Заяц-Ганец разрывала могилу на рассвете, считай, ночью) не спалось. Вы должны об этом знать, вы в тот вечер провожали ее в номер…
— Она увидела это с балкона?
— Да, — кивнул головой Юра. — Только с вашего балкона так хорошо просматривался задний двор…
— Я помню, — задумчиво протянула я, — как Катя рассказывал нам, что видела ночью что-то странное, да Сонь?
— Да. Мы разговаривали с Катей буквально за час до ее смерти.
— Поведение Жени ей показалось странным, но она все же не пошла в милицию… не понятно почему. Пошла бы, глядишь, осталась бы жива…
— Она вызвала Женю для разговора? — догадалась Сонька.
— Вот именно… За что и поплатилась. Заяц назначила ей встречу в удобное для себя время (двенадцать часов дня — идеальное время для убийства, в корпусе почти никого), пообещала все объяснить…
— Потом вывела Катю на балкон, заговорив ей зубы, и столкнула, — хмуро проговорила я.
— Ну, вам ли не знать, — хохотнул Юра, похоже, он никак не мог мне простить того, что я доставила ему столько беспокойства.
— А потом? — не дала разгуляться его сарказму Сонька.
— Потом она скрылась с места преступления через черный ход и влилась в толпу зевак.
— А за что она Гулю хотела убить? — спросила она, брезгливо сморщившись, похоже, она уже перестала Жене сочувствовать.
— Эта Гульнара Садыкова была не так ненормальна, как хотела казаться. Конечно, она была сильно не в себе, и у нее действительно по весне съезжала крыша, но ее последние концерты, один из которых я сподобился пронаблюдать, были сплошь постановочными… Когда она поняла, вернее почувствовала, психи они вообще очень чувствительные, так вот, когда она просекла, что в санатории твориться что-то странное, она решила затеять свое собственное расследования…
— Леля, у тебя, оказывается, был конкурент! — съязвил Геркулесов.
— Да. И конкурент не слабый, — улыбнулся Юра. — Она была вездесуща, настойчива, неутомима. Не сыщик, а мечта! Именно она выследила журналиста Эдика, которого приняла, замечу, вместе с твоей, Коль, женой, за призрака. Она думала, что в санатории бесчинствуют призраки… Потом она вычислила убийцу. Как мне кажется, совершенно случайно. Она тогда постоянно таскалась по территории, искусно изображая бесцельные шатания душевнобольной, за всеми подглядывала, подслушивала, устраивая засады в кустах, наверное, заметила что-то подозрительное в поведении Ганец. И установила за ней круглосуточное наблюдение…
— Одного не понимаю, — проговорила я задумчиво, — как она узнала, где зарыт Галич…
— Пока мы можем только гадать, Садыкова без сознания, — меланхолично изрек Юра.
— Н-да, — протянули мы с Сонькой.
— Теперь, надеюсь, вам все ясно? — встряхнулся Юра.
— Вроде бы… — начала я, но тут меня перебила Сонька:
— Нет не все!
— Ну что еще? — недовольно сморщился он.
— Не ясно, кто убил Лену! Лену из Сургута! Ведь она умерла! И она встречалась с Галичем! Это наводит на размышление…
— Несчастный случай. Елена Родина боялась высоты. Она упала.
— Точно?
— Это официальная версия, — пожал плечами Юра.
— А неофициальная?
— По моему глубокому убеждению, Елену убила ваша соседка по столу…
— Эмма Петровна? — в один голос ужаснулись мы с Сонькой.
— Какая еще Эмма Петровна? — разозлился он. — Я говорю об Оксане Павловне Соловьевой…
— Эта та, что в брульянтах? — не поверила Сонька. — Соломенная вдова покойного Васи Галича?
— Она самая.
— Вы уверены?
— Я уверен, но доказать не могу. Есть только мотив и косвенные улики…
— Мотив ясен, — встряла я. — Ревность. Ведь Галич параллельно встречался и с ней, и с Леной?
— Как показывают факты, то да. Те же факты показывают, что Оксана устраивала разборки с соперницей и даже однажды пыталась ее побить…
— Эти факты вам птичка на хвосте принесла?
— Постпрашал горничных, она в курсе всех событий…
— Еще какие косвенные улики имеются?
— Оксану видели на винтовой лестнице за десять минут до смерти Елены.
— Все?
— Все.
— Мало, — резюмировала я.
— Было бы больше, давно бы арестовали, — досадливо пробормотал он. — Самое же главное доказательство ее вины — ее поведение во время допроса. Она страшно перепугалась, когда я начал с ней разговор о Елене. Побледнела, глазки спрятала… Потом начала врать по пустякам, путаться в показаниях, юлить и имитировать обморок… — Он пожал плечами. — Но такое доказательство я не могу предъявить суду.
— Расколоть не пытались? — очень живо поинтересовался истосковавшийся по ментовским будням Колюня.
— Пытались, но где там… Стоит на своем: ничего не знаю, ничего не ведаю, а с этой кикиморой болотной, в смысле Леной, Васенька мой вовсе и не встречался!
— А пальчики проверили?
— Знаешь, сколько их там? Десяток! Наши же горничные не сильно стараются, пыль вытирая. — Он аж побагровел от возмущения. — А Соловьевские отпечатки есть, да только толку от этого… Признается, что в номере была, но давно, причем ни одна, а с подружкой, подружка, тут как тут, подтвердила, что посещала люкс вместе с подозреваемой еще до того, как в него Елена въехала… — Он вытер пот с лица не очень свежим клетчатым платком. — Я, конечно, не настаиваю на том, что Соловьева столкнула Родину намеренно, может, это и вправду был несчастный случай. Сцепились, наверное, из-за этого племенного жеребца Галича, одна другую и столкнула… Могла бы и Соловьева пострадать, но пострадала Родина…
— Представляю, как этой Оксане обидно было, — задумчиво проговорила Сонька. — Соперница устранена, любимый в полном твоем распоряжении, да вот незадача — любимый-то пропал…
Юра кивнул, соглашаясь с Сонькой, потом еще раз обтер лицо своим задрипанным платком, пригладил волосы, подтянул штаны и провозгласил:
— Ну, мне пора!
— Уже? — почему-то расстроилась Сонька.
— Дела, сами понимаете… — Он довольно приветливо нам кивнул и, пожав Кольке руку, покинул помещение.
Мы остались в палате втроем.
— Сколько ей дадут? — спросила я у Колюни, как только Юра вышел.
— Трудно сказать…
— Двадцать, двадцать пять или больше?
— Я бы пожизненное дала, — встряла Сонька, быстро забывшая о том, что всего двадцать минут назад стояла за преступницу горой.
— Это вряд ли. — Колька наморщил свой безмятежный лоб. — Если бы я взялся ее защищать, дали бы не больше пятнадцати… Общего режима, а то и вовсе принудительного лечения… — Он как-то горько вздохнул и с сожалением протянул. — Жаль, что я не могу… Такой интересный случай…
Я двинула Кольке по кудрявому загривку.
— Эта чума чуть меня не угробила, а ты «жаль, что не могу…»!
— Вот и говорю, — залепетал он, — что не могу… Из-за моральных принципов… и этических тоже… — И опять тяжело вздохнул. — А какой случай!
— У меня, между прочим, шрам может на лице остаться! — продолжала бушевать я. — А ты-ы-ы!