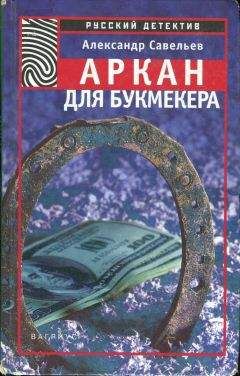Ольховцева пристально посмотрела на Михалкина, пытаясь прочитать по лицу, поверил ли он или нет. Скорее всего не поверил. Но это мало ее беспокоило.
— Так вы не ответили мне. Вы познакомили Антонину Кривцову с вашим соседом по дачному поселку, Луневым Геннадием Юрьевичем?
— Не знаю, откуда вам все это известно, но у меня впечатление — вы умеете читать чужие мысли. Я прав?
— С какой целью вы ее познакомили с этим человеком?
— Без всякой. По ее просьбе.
— Почему именно с ним?
— Не знаю. Она попросила познакомить с бандитом, смехом, конечно, подразумевая под этим делового человека. Сосед мой как раз из этой породы.
— О нашем разговоре — никому ни слова. Это в ваших же интересах. Пока, видимо, вы еще зачем-то нужны тому человеку. Иначе он давно отправил бы вас вслед за Кривцовым, если, конечно, то, что вы сейчас рассказали мне, соответствует действительности. Вы единственный свидетель. Будьте осторожнее. В случае чего сразу звоните.
— А как с моей зарубежной поездкой?
— Все зависит от результатов расследования и в немалой мере от вас, от вашей заинтересованности в скорейшем его завершении.
Ольховцева нажала кнопку звонка, и вскоре появилась сотрудница ОВИРа, сделала какие-то незначительные поправки в документах Михалкина и отпустила его. Следом за ним покинула кабинет и Ольховцева.
Шофера Лунева вызвали в прокуратуру следом за Антониной. С ее показаниями его не ознакомили, хотя и дали понять, что ее уже допросили. Он терялся в догадках, не зная, что она рассказала следователю об их последнем разговоре в номере, когда он сболтнул, что, дескать, сейчас налетит ОМОН и найдут под окном следы ботинок ипподромного босса. Если это всплывет, все, он поехал, с содержанием до суда в следственном изоляторе. А на то, что пока не взяли, причин может быть много. Хотят попасти, чтобы взять на чем-нибудь с поличным, а заодно высветить связи и прихватить еще несколько человек.
Шофер Жженого принадлежал к той категории уголовников, которых в криминальном мире именуют честными фраерами. Трижды судимый за различные бытовые преступления, он в общей сложности «оттащил» на нарах одиннадцать календарных лет, сделавших его прожженным преступником, прекрасно разбирающимся в порядках лагерно-тюремной жизни и воровских понятиях. Он придерживался воровской идеи, хотя до звания «вор» не дотянул.
Жженый платил ему не только за то, что он хорошо шоферил, но и за то, что умел держать язык за зубами. Однако заткнуть ему уши босс не мог, как и заставить ничего не видеть. Шоферюга многое знал из того, что не следовало бы, а еще больше догадывался о делишках Жженого, в том числе и о сотрудничестве с уголовкой.
До поры до времени он беспрекословно выполнял все приказания босса, даже такие, которые попахивали криминалом, до тех пор, пока Жженый был «на коне», то есть в законе, и всегда мог отмазать. Но события последних месяцев все в корне перевернули. Шоферюга навострил уши, был всегда начеку, опасался, как бы не дать маху. Он догадался, что блатные сели боссу «на хвост» и что у того появились проблемы с ментами.
«Его проблемы — это его проблемы, — размышлял шофер по дороге из прокуратуры. — Хлебать за него баланду я не собираюсь. Теперь мы с ним в одной масти. Он такой же фуцан, как и я. Даже апсом ниже. В тюрягу ему хода нет, там его ждет нож в бочину. Если не хочет туда, пусть срочно решает, как убрать эту бабу. Она много знает, единственная, кто может дать показания. Пока на меня ничего не вешают, буду молчать. А если повесят — извини, Жженый. Причин для мокрухи у него — воз и маленькая тележка: ревность из-за бабенки, интерес против Устрицы — прежнего босса на ипподроме. При желании можно найти еще, не менее убойные. Я пойду в несознанку. Он тоже. Посмотрим, у кого кишка крепче».
— Геннадий Юрьевич, в прокуратуре меня пытали о массажисте, — докладывал шофер своему боссу. — Обвинение пока не предъявили, но, кажется, мы на крючке. В принципе, ничего определенного у них нет. Ну был я в мотеле в тот день. Ну ночевал. Там каждый день сотни таких бывает. Подлянку же можно ждать только от вашей знакомой бабы. Она чересчур много знает.
— Убери. Плата по таксе.
— Едва ли что выйдет. Вдруг менты сели «на хвост»?
— Подумай хорошенько, перед тем как отказываться. Можешь лишиться места. Мне нужны верные люди. Пугать тебя не буду. Сам знаешь, живыми из таких игр не выходят.
— Подумаю. Непременно. Как не подумать? Только время уже поджимает.
«Змей. Пытается взять за горло. Почувствовал слабину. Ладно, бабенка — не ахти какая проблема. Я разберусь. Но следующим будешь ты. Погань. Твоя хитрость тебе же боком и выйдет».
Вечером Антонине позвонили по телефону.
— Алло, Тонечка. Это ты? Добрый вечер.
— Кто это? Говорите громче. Вас плохо слышно.
— Не узнала меня? И в жисть не узнаешь.
— Николай? Рогалев? Откуда ты взялся?
— Соскучился по тебе. А ты? Может быть, встретимся?
— Прямо сейчас?
— Конечно. А чего волынку тянуть? Ты еще меня не забыла?
Вроде бы он. И голос похож. Но что-то ее смущало.
— Адрес мой не забыл? Подъезжай, если хочешь. Я дома одна.
— Подъезжай лучше ты. Поплавок «Валерий Брюсов» на Якиманской набережной знаешь? Бар, ресторан, казино. Когда сможешь подъехать? Через полчаса? Я буду ждать тебя в баре.
Антонина уже собралась уходить, подумала и решила позвонить Катерине.
— Катенька, извини, тороплюсь, опаздываю на деловую встречу. На душе неспокойно. Кошки скребут. Если до одиннадцати не позвоню тебе, отнеси конверт, что у тебя, следователю Ольховцевой. Ты ее знаешь. Прошлый раз вы мне вместе звонили. Катюша, прости, если чем перед тобой виновата. По глупости моей все, по паскудной моей натуре. Чует сердце, не увижу больше тебя.
— Никуда не ходи. Слышишь? Я сейчас приеду к тебе.
— Поздно, Катюша. Поздно. Я обещала. Пусть будет, что будет.
— Не вешай трубку, Тоня, не вешай. Дождись меня. Я — мигом. Через пятнадцать минут приеду.
— Не надо, Катюша, не суетись. Что написано на роду, то от Бога.
— Скажи хотя бы, куда едешь.
— Целую, сестренка. Будь счастлива…
Антонина поймала такси и в назначенное время приехала в поплавок. В полупустом зале бара приглушенно звучала музыка. Рогалева не было. Она села за столик и заказала легкий коктейль. Прошло десять минут. Полчаса. Рогалев не появлялся.
Подожду еще десять минут. Если не придет, все. Больше его не знаю.
Он не пришел. Антонина вышла из бара.
Еще не было десяти. Движение в Москве затихало. Тихими всплесками, похожими на альковный шепот, ластилась к граниту набережной речная волна. С противоположного берега, где еще сохранились деревянные дореволюционные постройки, долетали звуки баяна, выводящего с чувством задушевную мелодию. Небо, высвеченное со стороны Кремля, над Крымским мостом оставалось темным, усыпанным яркими, как на юге, звездами. Антонина смотрела на них с грустью, раздавленная бесконечностью мироздания, его величественной красотой. Она направилась в сторону парка.
Ее нагнали четверо молодых людей. Сильные, красивые, модно одетые, приветливо улыбающиеся. Они окружили ее и, перебивая друг друга, заговорили. В руках одного вполсилы ухал магнитофон. Он прибавил звук, отдал магнитофон приятелю и подошел к Антонине, приглашая потанцевать.
— Что вы, мальчики, я для этого старовата.
— Вы — само очарование, желанны для любого мужчины.
Антонина, счастливая, просияла, разрешила обнять себя за талию и закружилась в танце.
В этот вечерний час Якиманская набережная засыпала. Вдоль нее тускло теплились фонари, выстилая асфальт медными пятаками. Уродливый истукан, будто Молох, нависал многотонной громадой металла, подавляя все живое вокруг, требуя жертвы, человеческой крови.
Молодые люди, сменяя друг друга, увлеченно кружились с Антониной, засыпая ее комплиментами. Тротуар стал им тесен, и они вышли на мостовую.
— Мальчики, я уже не могу. И вы передохните немного.
— Как можно? Такой дивный вечер.
Слева возвышался трехметровый забор — частокол пик без конца и края. Один из парней вскарабкался наверх с ловкостью обезьяны и забалансировал там, как цирковой акробат. Двое других подхватили Антонину под мышки и подкинули к нему, словно куклу.
— Ребята, вы что, очумели? Ведь я разобьюсь.
Парень наверху ловко поймал ее. Равновесие он держал, будто и не стоял на заборе, легко подбросил, перехватил в воздухе за талию и со всего маху усадил на острие пики.
Антонина вскрикнула. Жгучая боль пронзила ее насквозь, но вскоре утихла, увязнув в быстро деревенеющем мозге. Ей казалось, она закричала на всю Москву, но лишь слабый стон вырвался из груди. Сознание долго теплилось в ней. Ощущение инородного тела внутри было особенно невыносимо.