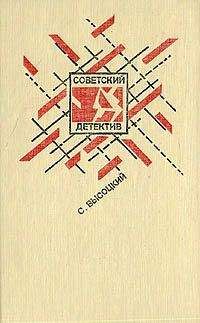Его звали Степан Фадеич.
— Бывший здешних мест председатель! — представился он, немножко рисуясь. — Восьмой год в лесу кукую. За верную службу отблагодарили... По одному месту палкой. — Степан Фадеич сделал красноречивый жест. — Сей момент мы с вами ужин сообразим, а завтра на Черное. Вы человек городской, мне поговорить с вами приятно будет... Я, бывает, неделями человека живого не вижу...
На столе появилась водка, нехитрая деревенская закуска, холодная, сваренная в мундире картошка.
Степан Фадеич словно торопился куда. Расспрашивал о том, как жизнь в городе, что слышно нового, подливал водки, снова расспрашивал.
Был он кряжист и грузноват, и ничто в его облике не подтверждало дедовы слова про недоумка. Портил ему вид только совсем крошечный нос, да глаза были какие-то пустые...
— Ха! Пошло нынче начальство... — Степан Фадеич вытер тыльной стороной ладони сальные губы. — В нашем колхозе, например, возьми (он вдруг перешел на «ты») того же председателя?!
Брезгливо сморщившись, он плюнул прямо на грязный, затоптанный пол.
— Ну как такого уважать? Дрянь. Мальчишка. Колхозники кличут Митя да Митя. А за глаза так и вовсе Митька. Срам! В наше время все к тебе по имени-отчеству обращались.
Степан Фадеич замолчал и, подперев ладонью заросшую щеку, уставился куда-то поверх меня, в темноту незанавешенного окна. Его белесые помутневшие глаза показались мне совсем пустыми.
— А какие демонстрации я в колхозе проводил! Трибуна была... Все как надо. Стоишь, бывало, на трибуне, речь говоришь... А вокруг — люди.
Степан Фадеич приосанился, вспоминая, налил мне водки в стопку, затем, махнув рукой, себе — прямо в граненый стакан.
— Э-э!..
— А ходили на демонстрацию? — спросил я.
Он посмотрел на меня строго, с осуждением:
— Как миленькие! Кому охота без огородов остаться...
Мне сделалось неуютно. Я не стал больше пить, да Степан Фадеич уже не обращал на меня внимания. Он ловко опрокинул свой стакан и, тыкая невпопад вилкой в квашеную капусту, все говорил, говорил:
— А какой дом у меня был! Видел, наверное, на прогоне стоит? Загадили — ясли устроили. Не то что ихний Митенька у Матрены в халупе ютится... Грошей сейчас больше платят. А что мне их гроши! Бывалыча выпить захочешь, бригадира кличу: «Никитич! Чтой-то у баб коровы колхозное поле топчут...» Тот — с полуслова! Заворачивает чуть не все стадо в колхозный загон. Тю-тю. Бабы бегут, трясут задницами. Что, почему? А им одно — потрава народного добра. Согласно закону — штраф... Плати денежку. Ну не со всех, конечно, Матрена — та за вилы раз взялась. Жаловались.
Он перешел на крик, и я подумал: вот сейчас рванет на себе рубаху.
Но Степан Фадеич не рванул, а скис. Замолчал. И все ковырял и ковырял вилкой в капусте, не обращая на меня никакого внимания.
— А теперь никто знать не хочет. Свои-то колхознички хороши, понастроили все хоромы! Хоть бы на новоселье кто пригласил...
Он был уже пьян, этот бывший председатель. Слезы обильно текли по его небритым щекам. Он вдруг стал икать. Мне было его совсем не жаль. Я взял из угла свой мешок и удочки, положил на стол и придавил стаканом трешку. Увидев, что я ухожу, Степан Фадеич уставился на меня пьяно и крикнул вдогонку:
— Ну, я еще себя покажу!
Звезды горели ярко, не мигая. Где-то далеко в деревне стройные женские голоса вели широко и вольно: «А где мне взять такую песню...» Песня то затихала, то слышалась снова, когда ее приносил легкий ночной ветер...
Мне вспомнились стихи Павла Васильева:
«Народ, твои напевы долги. Их начинают чуть дыша. В них ширина и вольность Волги. Разбойный посвист Иртыша! В них всюду брызжет светом алым, в них журавлей просторный лет, мечта о счастье небывалом их верным голосом ведет...»
«Случайный человек в лесу, — думал я, шагая по лесной дороге назад, в Ящеру, о бывшем председателе, — верно дед его недоумком назвал».
Воздух был прохладен и так густо настоян на духовитых запахах мшары, что кружилась голова. Необычно тихо было вокруг. Не слышалась уже песня. Небо затянуло тучами, а темень стояла такая густая, что я вдруг потерял всякое ощущение пространства! Это было удивительное состояние полной изолированности и вместе с тем полной слитности с природой. Я остановился в нерешительности, не в силах сделать ни шага, потеряв ориентировку... Шли минуты. И вдруг где-то очень-очень далеко раздался протяжный гудок паровоза. И все сразу встало на место — словно в моем сознании восстанавливалась на миг утраченная способность ориентироваться и отпечатались четкие контуры крупномасштабной карты.
Через несколько лет я снова побывал в этих местах. На кордоне было оживленно. Рядом с подведенным под крышу срубом несколько мужичков корили сосновые бревна. А старого дома не было. Я спросил, куда же он делся? Один из работавших кивнул на большую кучу мусора, заросшую крапивой:
— Хозяин спалил. Видать, пьяный был и сам не выскочил. А вообще-то дело темное. Пьяный или не пьяный. Сам уже не расскажет... Так болтают.
Здравствуй, озеро Онего! Холодное, пенистое, неприветливое и могучее. «Страшное Онего, страховатое», — пелось в народных песнях.
Глухо бьет волна в борт теплохода. Сыплются брызги. Где-то во чреве корабля успокаивающе ритмично работает машина.
Впереди Петрозаводск и цель моего путешествия — Кижи. Позади — Нева, Ладога, Свирь... Потемневшие от проливных дождей пристани Лодейного Поля, Подпорожья, Вытегры. И леса, леса...
Смотришь на эти бесконечные леса и думаешь: до чего же просторно живет русский человек. И не от этих ли масштабов душа русская так широка! И не от этого ли мы так расточительны и небережливы в обращении с природой?
Ночью прошли Вытегру. Лучи корабельных прожекторов бежали впереди, по низким берегам, выхватывая из тьмы стройные березки, заросли ивняка. Упругие волны лениво разбегались за кормой, шелестя прибрежными камышами.
Утром — Петрозаводск. Михаил Михайлович Пришвин писал в 1907 году о Петрозаводске:
«Чистенький городок, не живет, а тихо дремлет».
С озера город показался мне похожим на Сочи: сверкающие белизной домики рассыпаны на склонах горы; рассекает стремительные облака мачта телецентра, теснятся в порту корабли. Современный Петрозаводск живет шумной столичной жизнью. Мчатся «Волги», сверкающие, великолепные троллейбусы. И только проносящиеся время от времени огромные МАЗы, груженные в два обхвата сосновыми бревнами, напоминают, что где-то совсем рядом растут дремучие леса, а в лесах, как любят рассказывать в Петрозаводске, водится много медведей. За короткое время мне пришлось услышать несколько историй о прионежских медведях, причем довольно-таки забавных и фантастических. Вроде случая, описанного еще 70 лет тому назад в газете «Северное утро».
«Отмечая появление в Онежском уезде массы разного зверья и усиление охоты на хищников, рассказывают об охотнике, который один раз, встретив медведицу с медвежатами, взял на рогатину медведицу, сложил малых в мешок, но не успел еще вынуть рогатину из убитой медведицы, как на него набросился еще один медведь, и охотнику ничего не оставалось, только взять его за уши и тащить зверя в деревню».
...Старина, если она не проинвентаризована, не уложена под стекла музейных витрин, всегда имеет непередаваемый вкус романтики. Самая обыкновенная скромная могила может навести на самые необычные предположения, послужить завязкой любопытной истории.
История Шарля Лонсевиля началась для Паустовского с заброшенной могилы...
В Петрозаводске я долго бродил по заросшему и запущенному городскому кладбищу, разыскивая могилу Лонсевиля. Проблуждав несколько часов и ничего не найдя, отправился в краеведческий музей.
— Кто это такой, Лонсевиль? — удивилась моему вопросу молоденькая сотрудница музея.
Слушая объяснения насчет повести Паустовского, она недоуменно переглянулась с другой женщиной и, кажется, приняла меня за человека не вполне серьезного.
Я вышел на улицу, подумал о том, что хотя Шарля Лонсевиля, может быть, и не было совсем, но уж то, что Паустовский сидел под старой пожелтевшей березой у кладбищенской ограды, читал полустершиеся надписи на могилах и написал прекрасную повесть, — это уж точно. Впрочем, может быть, я просто плохо искал...
«ОМ-344» — так назывался пароходик, шедший в Кижи и дальше — в Великую губу. После «Мамина-Сибиряка» он казался совсем крошечным. На нем было тревожно и неуютно выходить в озеро.
Каждое лето у замшелой старенькой пристани Кижского острова фасонисто причаливают нарядные теплоходы с экскурсантами. О Кижах много написано, особенно за последние годы. Самые восторженные отзывы читал и слышал я о Преображенской и Покровской церквах, о суровой природе Заонежья...
Но никто и словом никогда не обмолвился о кижской земле — не усеянной, а прямо-таки перемешанной пополам с камнями.