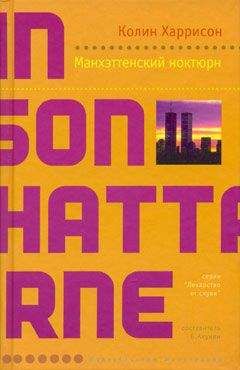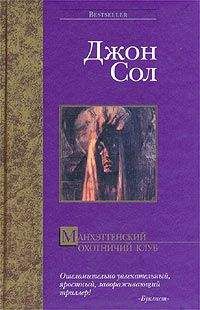Есть люди, которые получают удовольствие от унижения или стремятся к нему, думая, что будут наслаждаться им. В конце концов, проверка опытом в их власти. Возможно, они пережили унижение и даже нашли в нем удовольствие. Или, может, они обнаружили, что в процессе унижения происходит своего рода самоосвобождение; человек недееспособен; ответственность снимается. Я описываю не то, что составляет содержание подлинного события, а последующие мысли по поводу этого события, накапливающиеся в голове человека. Один товарищ-репортер как-то рассказал мне, что, когда ему было семнадцать лет, его изнасиловали в парке три мужика. Они проделали с ним все, что могли, и он пролежал в больнице две недели. Теперь этот юноша стал взрослым мужчиной, у него четверо детей и вполне довольная жена. Он ничем не провоцировал нападение. По просьбе матери он отправился в бакалейную лавку на велосипеде. Мужчины стащили его с велосипеда и отволокли в парк. И вот что странно: он не жалел об этом инциденте. Он признался, что если бы ему представилась возможность стереть этот случай из памяти, он не стал бы этого делать. Он по-прежнему думал об этом случае; этот эпизод оказался важным для него и дал ему возможность поразмышлять о других проявлениях сексуальности. Он стал болезненно любопытен – факт, который он без всякого сожаления связывал с этим инцидентом.
В случае с Кэролайн взаимодействие случайностей и событий, у истоков которых стояла она сама, оказалось слишком сложным для моего понимания, но тем не менее оно имело место. Я полагаю, именно это предвидел выпускник Йельского университета, когда предупреждал Кэролайн, что ей придется трудно. Он знал, что раз она так легко переспала с ним, она точно так же будет спать и с другими, и поэтому можно с уверенностью предсказать, что другие не будут так добры, как он. Когда мы становимся родителями, у нас быстро наступает отрезвление: мы видим, как впечатлителен ребенок и как легкое новое впечатление быстро превращается в привычку, которая в итоге наносит ущерб личности. Слушая рассказ Кэролайн о ее одиссее из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, я не мог не испытывать странные смешанные чувства беспристрастного журналиста, любовника и отца. Без сомнения, я рассуждал с некоторой долей самодовольства, но все мои рассуждения рассыпались из-за слабых мест в аргументации, и все же они начали объединяться вокруг одного решающего вопроса. Погрузившись в размышления, я догадался, что еще задолго до приезда в Лос-Анджелес Кэролайн должна была пережить некое грубое насилие, некий стресс, сорвавший ее с нормальной траектории, по которой протекает жизнь большинства маленьких девочек, и загнавший в странный зигзаг насилия и половой жизни, который она описала. Это переживание, должно быть, оказалось переносимым – ведь она выжила – и все же необычным даже для девочки из сельской семьи, принадлежащей к нижним слоям среднего класса, с затюканной матерью и отчимом с сомнительными намерениями и ненадежной психикой. Я вдруг понял, что это событие – хоть и ужасное – было таким же типичным, как кровосмешение или какое-нибудь аналогичное противоправное половое сношение. И все же я чувствовал, что было что-то еще, что-то, не вписывающееся в социологические построения, но обладавшее для маленькой девочки поэтическим единством и силой. Умы детей не загромождены житейским мусором. Мир сверкает новизной, язык могуч и ярок, образы пока еще не сформированы. Какой была та девочка, гадал я, которая превратилась в эту женщину? И если что-то произошло, то что именно?
Но потом, выглянув из окна квартиры Кэролайн, я проклял себя за то, что в полупьяном состоянии развлекался такими дурацкими рассуждениями. В данном случае сентиментальное воспитание было ни при чем; просто я, как полнейший болван, оказался в одной комнате с непотребной женщиной, которая спит со всеми подряд. В этом городе в других комнатах всегда есть люди, занимающиеся другими делами. Теперь я стал одним из них. С этой мыслью я и вернулся к постели, чтобы выслушать что-нибудь еще из того, что собиралась поведать мне Кэролайн. Тогда я еще не знал, что вопрос относительно детства Кэролайн, сформулированный мною в процессе таких утомительных размышлений, был до жути похож на тот, за который инстинктивно ухватился Саймон Краули перед смертью. Одно из существенных различий между нами заключалось в том, что я интересовался ответом, а он его требовал. И тем не менее, как это ни странно, именно Хоббс услышал его – от самой Кэролайн. Таким образом, между нами троими существовала связь, не известная ни одному из нас; таким образом, нить из клубка наших отношений непостижимым образом тянулась к событию, в котором ни один из нас не участвовал.
Но только позднее, намного позднее, все это прояснится для меня; пока же я слушал Кэролайн, которая описывала первое время своей жизни в Нью-Йорке. Был апрель, и вначале она остановилась в дешевой гостинице прямо у парка Вашингтон-сквер; подходя к окну, она наблюдала, как распускаются листья, разглядывала лица, здания, уличное движение, тени, скользящие вдоль авеню и пересекающие улицы, особенно Мидтаун, где по улицам ходили деньги, воплотившиеся в человеческие существа. Она сказала бы, что в Нью-Йорке женщин воспринимали серьезнее; выглядели они хуже, чем женщины в Лос-Анджелесе, но у них было больше прав; они участвовали в игре. Куда бы она ни пошла, она понимала, что той Америке, которую она знала до сих пор, недоставало сплоченности и целеустремленности. Даже Лос-Анджелес казался распутным, разодранным автострадами, вывернутым напоказ, песчинкой под солнцем. В Нью-Йорке же все было шито-крыто. Даже бедные и несчастные наделены были каким-то особым величием в своих страданиях. Безобразного вида мужчины в лохмотьях шли подобно великанам сквозь толпу, протискиваясь мимо, ну, скажем, похожей на ястреба женщины лет сорока пяти, которая могла бы перечислить по памяти все квартиры, продающиеся за миллион долларов и выше в данном квартале на Парк-авеню, разговаривающей по мобильному телефону с мужчиной, каждый вечер составляющим видеоряд крупнейшего в стране послеполуночного ток-шоу, определяющим по одиннадцати мониторам телекамер плавную последовательность дальних и крупных планов, – панорамный план массовки, предельно крупный план улыбающегося гостя, быстрое переключение на ведущего, насмешливо играющего бровями; здесь делались состояния, и Кэролайн поняла, почуяла, что происходящие дробление и распад Америки хоть и проявлялись в Лос-Анджелесе, но предопределялись и в Нью-Йорке. Здесь были культурные разрывы, разломы, ниши, были люди, которые знали, как ворваться в них со своими программами, образами, словами и анализом. Она видела людей, торгующихся в ресторанах, фотосъемки на улицах, отношения, говорившие о том, что общество ничего не раздает задаром, что-то хорошее приходится покупать или совращать или в открытую воровать. А где она найдет себе применение в этом городе, она не знала, но в тот момент это ее и не беспокоило; в первое время она чувствовала себя свободной от всего, от чего она уехала, свободной даже от себя самой, и хотя в Лос-Анджелесе она жаждала доставлять удовольствие, смеяться и трахаться с другими, теперь она взяла себя в руки и блюла себя. Много лет назад она жила в прохладном климате, и это ей нравилось, нравилось, что приходится кутаться в пальто, нравилось бывать в кафе и музеях, нравилась ее первая манхэттенская квартира на Западной Девяносто седьмой улице, из которой она могла глазеть на толпы, движущиеся внизу вдоль мокрой ленты Бродвея, с его жалкими продавцами книг, мокнущими под моросящим дождем, с его скоплениями такси, останавливающихся и едущих и снова останавливающихся и снова едущих, с его хмурой сосредоточенностью; на старые здания и глубоко въевшуюся грязь и сознавать, что на ее памяти это первый раз, когда она может назвать себя счастливой.
Она рассказала мне, что первая любовная связь в этом городе была у нее с молодым врачом, с которым она познакомилась однажды ночью на улице у корейской бакалейной лавки, и в течение тех нескольких недель, что она встречалась с ним, он неизменно был несчастным и измученным. У него было стройное тело, возбуждавшее ее, но у него то и дело возникали затруднения с эрекцией; он работал врачом-стажером в онкологическом отделении больницы и целыми днями смотрел в глаза страдающих и умирающих, вдыхал испарения живых трупов, наблюдал красноту опухолей, разжижение костей, божественную прелесть морфина. Каждый день он тратил свои душевные силы в больнице, и хотя она и полюбила его, правда не слишком сильно, она не удивилась, когда он ушел от нее и больше ей не звонил.
В течение некоторого времени она оставалась одна, не работая и тратя сбережения.
– Ты работала? – спросил я.
– По правде говоря, нет.
– Как же ты жила?
– Я отказалась от своей квартиры, – ответила она.