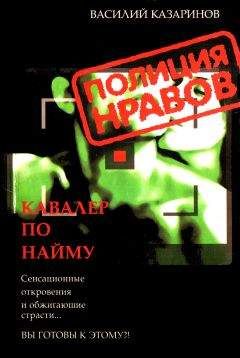Чуланчик был забит картонами и листами, в которых жил и распускался мягкими, поразительно яркими красками бушующий природный мир. В основном это была пастель. Еще несколько эскизов углем, но доминировала в листах пастель, самая мягкая, пластичная и ласковая техника.
— Я ведь в Строгановском училась, — пояснила она, присаживаясь на стульчик рядом с наклонной доской, на которую крепятся листы.
— А как же... — спросил я, — как же телефон?
— Ах это... — улыбнулась она и, прикрыв глаза, с придыханием произнесла: — Я высокая блондинка с пышной грудью и длинными ногами, мои широкие, крепкие бедра уже трепещут в ожидании твоего прихода... — Оборвала себя на полуфразе и вздохнула: — Надо же было как-то жить, зарабатывать на хлеб — себе и Шерлоку... Увы, высокая блондинка приказала долго жить. — Она повернула голову в мою сторону, и я спрятал глаза, опасаясь встретиться с ее неподвижным взглядом. — Теперь меня уж точно выгонят с горячего телефона. Встречаться с клиентами нам категорически запрещено.
— Ты ведь знаешь, что я не клиент. — Я опять погладил ее по голове. — Как тебя, зверек, кстати, зовут?
— Саня. Саша. Александра... Хочешь посмотреть, как это бывает — по памяти? — спросила она, укрепляя на доске чистый лист бумаги, а потом, откинувшись на спинку стула, долго сидела, слепо глядя перед собой, словно нащупывала в памяти один из образов прошлого, потом опустила руки на лист и, слабо шевеля пальцами, долго ощупывала его, осваивая белое пространство пустоты, но вот ее рука порхнула в сторону коробки с разноцветными мелками.
И я поймал себя на том, что перестал дышать, следя за движением ее руки, уверенно бросающей в пространство пустоты мягкие штрихи, а в белом поле листа быстро прорастали: покосившийся забор, вспышка густой травы у воротной стойки, за ней, слегка отпрянув от ворот, дом с трубой, труба с дымом...
— Это наша дача, — сказала она. — Хотя какая дача, так, сараюшка. Далеко. Под Луховицами. Ну как тебе? — Она развернула лицо в мою сторону, и я опять отвел взгляд. — Я ведь не совсем в полной тьме живу. Скорее, это сплошной серый фон. И на этом фоне и вижу смутные контуры фигур, предметов.. Тени... Хочешь знать, каким я вижу тебя?
Она укрепила на доске новый лист и с минуту смотрела на меня, а потом быстро набросала угольком контур, в котором я с изумлением узнавал что-то поразительно знакомое, а потом она осторожно штриховала плавный абрис этой фигуры, уголек изредка выскальзывал за границу контура, и это были тем не менее удивительно точные по смыслу оплошности, потому что в результате возникало ощущение, будто под легким ветерком слабо шевелится оперение этого безглазого и безлицего существа, а мне лишь оставалось, выбрав в ящичке с пастельными мелками желтый, вписать в эскиз два ярких желтых круга — там, где у ночной птицы полыхают во мраке ночи ее большие, зоркие глаза.
— Ты устал, — сказала она, отодвигаясь вместе со стульчиком от доски. — Да, устал, я же вижу... Пойдем, я тебя покормлю. Ты ведь хочешь есть.
— Нет, — сказал я, с удивлением прислушиваясь к себе и не ощущая привычного инстинкта, хотя ведь и не помнил толком, когда ел в последний раз, и наверняка должен был проголодаться, а впрочем, пора мне привыкнуть к тому, что вблизи ее дыхания мои природные инстинкты растворялись без следа.
— Ну как хочешь, — сказала она. — Тогда давай ляжем спать.
— Давай, — сказал я, и мы, ведомые Шерлоком, прошли в комнату, я быстро разделся, а потом смотрел, как раздевается она и предстает передо мной в самом деле щупленькой девочкой, почти школьницей, с едва наметившимися женскими формами, но при этом тело ее дышало каким-то поразительно уютным, домашним, покойным теплом.
Она приблизилась, тепло стало еще плотнее, гуще, мягче. Я поцеловал ее в сухие губы. Она погладила меня по голове, легла на кровать, вытянулась солдатиком. Я лег рядом и, глядя в потолок, вдруг ни с того ни с сего пробормотал:
— Sic exio me...
— Что? — вздрогнула она и приподнялась на локте. — Опять латынь? А что это значит?
— Так освобождаюсь... А почему — опять? Ты сказала — опять латынь.
— Я давно заметила, когда ты рассказываешь о чем-то или о ком-то, то в речи твоей частенько мелькают латинские слова... Почему так?
— В них много мудрости и печали...
— Какой печали?
— Вселенской. Густой, тяжелой, муторной... Этот город погружен в вязкое вещество печали как в зыбучие пески, и кажется, ему уже не выбраться к солнцу, свету, ветру.
— А откуда она берется?
— Omne animal triste post coitum, — припомнил я вдруг.
— Что это?
— Да так... Мудрое наблюдение древнего философа. Переводится так: всякая тварь после соития печальна.
— Animal... Triste... Post... Coitum... — Она произносила каждое слово отдельно, словно дегустируя по глотку. — Да, латынь в самом деле поразительна. Торжественный, будто отлитый из благородной бронзы язык. Бронзы, бронзы, а не латуни... А Animal — это тварь?
— Ну, строго говоря, животное.
Она долго молчала, потом спросила:
— А кто я?
— Не знаю. Тот вид, к которому принадлежишь ты, мне пока не встречался.
Я провел ладонью по ее волосам. В сумраке маленькое, детское тело Александры отливало матовой белизной. Я ощутил наплыв странного чувства — невнятного, неопределенного, такого еще не было в моей природе.
Это ощущение шло по телу мягкой волной, его энергия комочком собралась в груди, отогревая меня.
Она обняла меня.
Меня бросило в холодный пот, хотя сотни раз за время работы наемным бабником бывал в такой ситуации.
Но теперь я просто не знал, что делать.
Прикрыл глаза и попытался вспомнить, как это бывает у людей, когда мужчина и женщина лежат в постели, обнимая друг друга.
И не вспомнил...
Она не видела, что со мной происходит, но конечно же все понимала и потому выскользнула из-под меня, мягко надавила на плечи, понуждая опуститься на спину, а потом перекинула ногу через мое бедро и замерла... Мне показалось, что я погружаюсь в забытие. То самое, которое впервые коснулось меня сумрачным утром, когда мы вернулись с Ласточкой после ночной прогулки на речном трамвайчике в мой дом. То самое, с которым я жил несколько лет — вплоть до того дня, когда мы расстались, когда Ласточка вдруг улетела в теплые края.
Мы обнялись, срослись, сплелись надолго, а потом, когда сознание медленно начало возвращаться ко мне, я с изумлением отметил, что не исчезло ощущение неостановимой печали, — напротив, возникло поразительно свежее, прозрачное, бодрое чувство, оно заполнило меня всего без остатка, и как бы в унисон моему чувству черный квадрат слепого окна осветился яркими брызгами гулко бухнувшей петарды, а потом колодец старого двора взорвался криками, смехом и безудержным весельем.
— Ну вот... — прошептала она, — Новый год. Говорят, как его встретишь, так и будешь жить дальше. Но как? И где?
— Как это — где? — расхохотался я. — В доме. Что нам стоит дом построить? Нарисуем — будем жить!
Она села и, обхватив руками колени, повернулась к окну, за которым орали что-то веселое, пили шампанское и швырялись друг в друга снежками.
— Нарисуем... — сказала она. — Это хорошо. Но где мы возьмем краски?
Я обнял ее, поцеловал в висок и ничего не сказал, но, судя по тому, что в лице ее проступила улыбка, она поняла меня: ничего, Саня, будем жить, мы нужные нам краски добудем из небытия, в которое лет пятнадцать назад обрушилась наша нормальная человеческая жизнь, мы вычерпаем их из того пронизанного солнцем дня, в котором мы, дети, выбегали во двор ранним летним утром, грея за щекой сладкий вкус ириски "Золотой ключик", и видели радугу, парящую в тугой струе дворницкого шланга, и слышали запах зелени, отдохнувшей за ночь от зноя, — вычерпаем и твоей слепой, но очень верной рукой положим на чистый лист первый штрих. А на белом поле листа поселятся: покосившийся столб воротной стойки, под ним сочная зелень свежей травы, чуть дальше — дом, крыша на доме, труба на крыше, дым над трубой, небо над дымом... Рыжики будем солить, капусту квасить, вареньем запасаться на зиму, наливки вишневые настаивать на засиженных мухами подоконниках, на Пасху яйца красить, из церкви возвращаться домой просветленными, и все у нас будет по-людски.