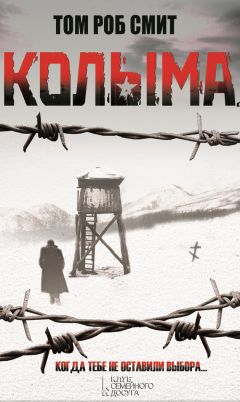Раиса прыгнула первой, и Лев, не раздумывая, последовал за ней. Он еще успел увидеть, как Раиса вошла в воду, а в следующий миг и его ноги коснулись поверхности реки. Оказавшись под водой, он почувствовал, как его подхватило течение. Подавляя инстинктивное желание устремиться вверх, чтобы глотнуть воздуха, он нырнул глубже, к самому дну, где должна была упокоиться Зоя. Он не знал, насколько велика здесь глубина, и, отчаянно работая ногами, погружался все ниже – легкие уже горели, и каждый новый гребок давался ему все труднее. Наконец руки его коснулись вязкого илистого дна. Он огляделся по сторонам, но ничего не увидел. Его поволокло наверх, и он еще пытался что-то сделать, оглядываясь по сторонам, но все было бесполезно – он не видел ничего. Дышать больше было нечем, и он устремился к поверхности. Вынырнув, Лев жадно глотнул свежего воздуха. Обернувшись, он увидел, что мост уже остался далеко позади, – его отнесло течением.
Он сделал несколько глубоких вдохов, намереваясь нырнуть снова. Неподалеку закричала Раиса:
– Зоя!
В ее крике звучало отчаяние.
Шесть месяцев спустя. Москва
20 октября
Филипп разломил буханку пополам, внимательно следя, как на мгновение растягивается еще теплое тесто, а потом рвется неровными краями. Он отщипнул кусочек мякиша, положил его на язык и стал медленно жевать. Хлеб был очень вкусным, а это значило, что и вся партия вышла безупречной. Ему вдруг захотелось побаловать себя, намазать на хлеб толстый слой масла и смотреть, как оно тает и впитывается, прежде чем вгрызться в ломоть зубами. Увы, он не мог проглотить и крошки. Подойдя к мусорному ведру, он сплюнул в него липкую кашицу. Подобное обращение с хлебом приводило его в содрогание, но поделать он ничего не мог. Несмотря на то что он был пекарем-булочником, причем одним из лучших в городе, сорокасемилетний Филипп мог употреблять лишь жидкую пищу. Последние десять лет его мучила язва желудка, причиняя невыносимую боль. Стенки его желудка были изъедены кратерами, полными кислоты, – невидимые глазу шрамы, оставленные сталинским режимом, свидетельства страшных и бессонных ночей, когда он лежал без сна, гадая, не был ли слишком суров с мужчинами и женщинами, работавшими под его началом. Он был перфекционистом. Любая оплошность выводила его из себя. Недовольные им рабочие могли запросто написать анонимку, обвиняя его в высокомерном, буржуазном поведении и прочих смертных грехах. Даже сегодня при одном воспоминании об этом его желудок взбунтовался. Он поспешил к столу, смешал раствор соды и залпом проглотил мерзкую мутно-белую жидкость, напомнив себе, что все его тревоги остались в прошлом. Полуночные аресты канули в Лету. Его семья находилась в безопасности, да и сам он благополучно избежал доносов. Его совесть была чиста. Но за это ему пришлось заплатить своим здоровьем. Впрочем, учитывая обстоятельства, даже при том, что он был пекарем и гурманом, цена казалась не слишком высокой.
Раствор соды успокоил желудок, и он отругал себя за то, что опять вспомнил прошлое. Впереди его ждало светлое будущее. Государство наконец-то признало его таланты. Хлебопекарня расширялась и вскоре должна была занять все здание. Раньше в его распоряжении находились лишь два нижних этажа, а верхний был отдан фабрике по производству пуговиц, служившей прикрытием секретному правительственному агентству. Впрочем, выбор места для него неизменно ставил Филиппа в тупик: в комнаты неизбежно набивалась мучная пыль, и еще там было жарко как в аду – из-за работающих печей. По правде говоря, он очень хотел, чтобы они съехали оттуда, но не потому, что ему так уж были нужны свободные помещения, а потому, что ему не нравились люди, которые там работали. Их форма и скрытная манера вести себя дурно влияли на его желудок.
Подойдя к лестнице в коридоре, он осторожно взглянул наверх. Прежние обитатели последние два дня выносили ящики с бумагами и служебную мебель. Поднявшись на лестничную площадку, Филипп остановился у двери, снабженной несколькими внушительными замками. Но стоило ему дотронуться до ручки двери, как та приоткрылась. Он толчком распахнул ее и стал обозревать мрачное помещение. Комнаты были пусты. Осмелев, он перешагнул порог своих новых владений. Нащупывая выключатель, он вдруг заметил, что к дальней стене привалился какой-то человек.
Над головой ярким светом вспыхнула лампочка без абажура, и Лев заморгал и выпрямился. Когда перед глазами исчезли разноцветные круги, он заметил, что у дверей стоит булочник – худой, как щепка, мужчина. В горле у Льва пересохло. Он хрипло откашлялся, поднялся на ноги, отряхнулся и обвел взглядом опустевшие помещения, которые еще совсем недавно занимал его Отдел по расследованию убийств. Секретные папки с материалами, свидетельства преступлений, которые раскрыли они с Тимуром, исчезли. Их вывезли, чтобы сжечь, развеять по ветру плоды его трудов – грязной работы, которой он занимался последние три года. Булочник, имени которого Лев не знал, застыл в неловкой позе, и на лице его было написано замешательство сострадательного добряка, случайно ставшего свидетелем несчастий, постигших соотечественника. Лев сказал:
– Три года мы сталкивались на лестнице, а я даже ни разу не поинтересовался, как вас зовут. Я не хотел…
– Пугать меня?
– Но я вас напугал?
– Честно говоря, да.
– Меня зовут Лев.
Лев протянул ему руку, и булочник пожал ее.
– Меня зовут Филипп. Прошло три года, а я ни разу не угостил вас хлебом.
В последний раз выходя из комнаты, которую когда-то занимал его Отдел по расследованию убийств, Лев остановился на пороге и оглянулся, прежде чем захлопнуть дверь навсегда. Испытывая непривычную легкость во всем теле и головокружение, он спустился вслед за Филиппом на нижний этаж, где ему вручили буханку хлеба – еще теплую, с золотистой корочкой. Он отломил краюху и впился в нее зубами. Филипп внимательно наблюдал за его реакцией. Сообразив, чего от него ожидают, Лев проглотил кусок и заявил с набитым ртом:
– Это – самый вкусный хлеб, который мне когда-либо доводилось пробовать.
Он не кривил душой. Филипп улыбнулся и спросил:
– Чем вы там занимались наверху? К чему такая секретность?
Но, прежде чем Лев успел ответить, булочник спохватился и пошел на попятный:
– Не обращайте на меня внимания. Я лезу не в свое дело.
Не переставая жевать, Лев почел за благо ответить:
– Я руководил специальным подразделением милиции, убойным отделом.
Филипп растерянно умолк. Он явно не понимал, о чем идет речь. Лев добавил:
– Мы расследовали убийства.
– И много у вас было работы?
Лев коротко кивнул.
– Больше, чем вы думаете.
Приняв в качестве подарка еще одну буханку, чтобы отнести ее домой, а также остатки недоеденной, Лев повернулся, чтобы уйти. Филипп окликнул его, явно не желая, чтобы их разговор закончился на столь пессимистичной ноте:
– Летом здесь бывает жарковато. Наверное, вы рады возможности переехать в другое место?
Лев опустил глаза, рассматривая узор, который оставили следы ног на запорошенном мукой полу.
– Отдел не переезжает. Он закрывается.
– А как же вы?
Лев поднял голову.
– А я перехожу на службу в КГБ.
Тот же день
Институт имени Сербского занимал скромное по размерам здание, окна верхних этажей которого украшали полукруглые балкончики с железными балюстрадами. Внешне оно походило на симпатичный жилой дом, а не на больницу. Раиса остановилась, как делала всегда, метрах в пятидесяти от входа, спрашивая себя, правильно ли она поступает. Она перевела взгляд на Елену, которая стояла рядом и держала ее за руку. Кожа девочки была какой-то неестественно бледной, словно увядшей. Она сильно исхудала и болела с такой незавидной регулярностью, что недомогание стало ее обычным состоянием. Заметив, что шарф у Елены развязался, Раиса присела перед ней на корточки, поправляя его.
– Мы можем вернуться домой. Мы можем вернуться домой в любое время.
Елена молчала. Лицо девочки ничего не выражало, словно перед Раисой стояла ее точная копия с истончившейся кожей и глазами цвета зеленого бутылочного стекла, начисто лишенная внутренней жизненной силы. Или все было наоборот? И сама Раиса была бездушной копией, суетливой и заботливой, имитирующей то, что делала бы на ее месте настоящая мать?
Раиса поцеловала Елену в щеку и, не получив ответа, почувствовала, как у нее защемило сердце. Она не знала, как бороться с полным и абсолютным безразличием, которое овладело Еленой с того момента, как она, глядя на девочку полными слез глазами, прошептала ей на ушко, ожидая взрыва скорби:
– Зоя умерла.
Но Елена никак не отреагировала на ее слова. Вот и теперь, шесть месяцев спустя, она осталась совершенно безучастной, ничем не выдавая своих чувств, во всяком случае внешне.