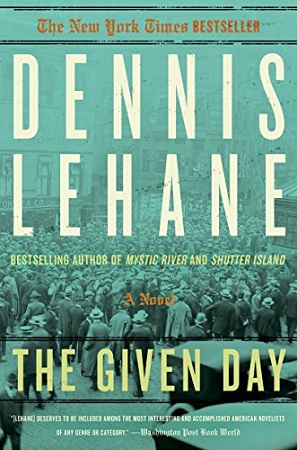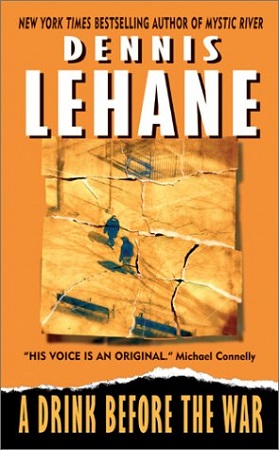вскидывает брови, затем приветливо улыбается ей и жестом показывает, мол, «когда все кончится, пожалуйста, задержитесь».
Входят родственники с гробом. Мэри Пэт представляет лежащего внутри парня, затем – свою дочь в морге, и ее накрывает страшной волной горя и утраты, но еще и ощущением греха, который Мэри Пэт не может ни назвать, ни даже внятно описать. Только понимает, что запятнана этим грехом. На мгновение ей кажется, будто она вот-вот лишится чувств. Воздух вдруг становится слишком разреженным и слишком тяжелым одновременно. Мэри Пэт хватается за спинку скамейки впереди и не отпускает, пока приступ головокружения не проходит.
У католиков похороны по длительности уступают только свадьбам и рождественским службам, но даже с таким опытом Мэри Пэт совершенно не ожидала, сколько может длиться эта церемония у баптистов. Сначала звучат аж четыре спиричуэлса [45], следом идет отпевание, а затем преподобный Тибодо Джосайя Хартстоун III, ведущий службу, напоминает прихожанам, что его назвали в честь одноименного городка в штате Луизиана, где менее века назад белые ополченцы напали на дома негров – уборщиков сахарного тростника (в числе которых были и дед с бабкой преподобного Хартстоуна), устроивших забастовку, и перебили свыше полутораста мужчин, женщин, детей и стариков (в числе которых были и дед с бабкой преподобного Хартстоуна) за то, что те осмелились требовать человеческого обращения и справедливой платы за свой труд. Речь преподобного сопровождает хоровое «аминь» и редкие возгласы вроде «Господи Иисусе!» и «Боже, помилуй!».
– …И кто эти четверо белых подростков из Южного Бостона, как не очередные народные мстители? – вопрошает преподобный Тибодо Джосайя Хартстоун III у паствы. – Чем ополченцы прошлого отличаются от неотесанных негодяев, лишивших жизни нашего дорогого сына Огастеса? И за какое прегрешение? За то, что у него сломалась машина и он всего лишь хотел попасть домой? За то, что хотел стать лучше и поступил на курсы подготовки менеджеров в «Зейре»? За то, что посмел оказаться на улице и воспользоваться станцией метро, которое эти подростки считают своим? О таком ли молоке человеческой доброты говорил Господь наш Иисус Христос?
У Мэри Пэт снова кружится голова, а к горлу подступает ком. Надгробная речь над Огги Уильямсоном в ее сознании как будто перетекает в надгробную речь над Джулз. Надгробную речь над тем, что Мэри Пэт оставила после себя как родитель.
– Нет!.. – отзываются собравшиеся.
– Нет! – ревом вторит им преподобный, вскидывая руку к потолку. – Нет! Потому что, братья мои и сестры, этот мир им не принадлежит. Это наш общий мир, мир Божий. И у них нет никакого права забирать дитя Божье из Его мира просто потому, что их не устроил данный ему цвет кожи.
Мэри Пэт опускает голову и пытается сглотнуть горячую желчь. Из-за ушей катятся крупные градины пота, затекая за воротник рубашки. Одна капля продолжает катиться по позвоночнику. Мэри Пэт часто хватает ртом воздух, не поднимая головы.
– Но Бог милостив, – продолжает преподобный.
– Аминь!..
– Бог справедлив!
– Да!..
– Он говорит мне: «Огастес сейчас со Мной!»
– Хвала Иисусу!..
– «И Я, ваш Господь и Спаситель, покараю тех, кто причинил боль брату Моему Огастесу! Ибо Я есть Господь!»
– Славься, Господи!..
Закончив метать громы и молнии, преподобный Тибодо Джосайя Хартстоун III затягивает гимн «День прошел и ушел», и прихожане с жаром подхватывают. В их голосах мешаются радость и гнев, божья любовь, расстройство и страсть, подобных которым Мэри Пэт прежде никогда не слышала. От напора содрогается пол, содрогаются скамьи, содрогаются даже сами стены церкви.
После гимна с переднего ряда встает Реджинальд Уильямсон, отец Огги, и направляется к аналою. Это высокий изящный мужчина, Мэри Пэт несколько раз видела его и всегда поражалась, как в нем сочетаются смиренность и уверенность. Теперь же ее поражает невыразимая бездна отчаяния в его глазах, видимая даже с галерки. Но это не отчаяние утратившего надежду, это отчаяние того, кто был оставлен. Первое – проявление слабости, второе – острый нож. Те, кто сдался, покорны судьбе, но те, кто лишился всего, ожесточаются.
– Огги был обычным ребенком, – начинает Реджинальд; микрофон гулко разносит его приглушенный голос. – Подростком, бывало, не слушался, но поводов для тревоги не подавал. Любил маму. Ссорился с сестрами. Да уж, всякое случалось… – Он коротко усмехается. – Окончил школу, правда, не с теми оценками, с которыми чернокожему мальчишке дали бы стипендию в колледже. Поэтому пошел работать в тот универмаг, решил продвигаться по руководящей линии. Надеялся когда-нибудь стать главой всей сети в Новой Англии. – Реджинальд поднимает голову и смотрит куда-то вдаль над присутствующими. – Любил одежду наш Огги.
По церкви прокатывается тихий смешок.
– Вот-вот… – произносит отец. – «Тряпками» их называл. Уже с детства был привередлив ко всем своим шмоткам. Обожал панамки, блестящую обувь – всегда начищал туфли, чтобы сверкали, будто четвертаки, – все эти рубашки с гигантскими воротниками… Пару недель назад зацепился штаниной за дверной косяк, и что думаете? Сам сел и заштопал дыру. Я ему: «Сын, чего б тебе не купить пару брезентовых рабочих брюк и больше не переживать, что порвутся?» А он мне: «Ты что, па, а если я умру в рабочих брюках?»
Реджинальд замолкает, а с ним затаили дыхание и все собравшиеся: ждут, к чему он клонит.
Реджинальд наклоняется ближе к микрофону и, слегка задыхаясь, продолжает:
– Он не хотел умереть в брезентовых брюках. Так и случилось. Зато он умер, попав в Южный Бостон. Хотя нет, попал он туда живой. А потом его убили… И хоть Господь учит нас прощать если и не сам грех, то грешников, но я вам скажу: в жопу грешников!
Народ на скамейках начинает возиться и перешептываться. Преподобный Тибодо Джосайя Хартстоун III, возвышающийся у алтаря, натянуто улыбается, но весь напрягся, будто готовый броситься и выхватить микрофон.
– Что должно измениться? – неожиданно тихо вопрошает Реджинальд Уильямсон. – Когда? Где? Как?.. Люди не убивают своих сородичей. Это требует насилия над собой. Это тяжело.
Он отступает от аналоя и замирает, зажав себе рот ладонью, как будто не хочет говорить дальше. В конце концов все-таки возвращается к микрофону:
– Легко убить только того, кого считаешь чужим. И… и нич… ничего не изменится, пока нас не будут считать такими же людьми, как они. Пока в нас будут видеть чужих. – Он опускает голову. – Ничего не изменится.
«Но вы и есть чужие», – врывается непрошеная мысль. И как бы Мэри Пэт ни пыталась прогнать это слово из головы, оно продолжает настойчиво звучать: «Чужие. Чужие. Чужие».
Ком, который она вроде бы проглотила, снова подступает к горлу, колкий и горячий. Мэри Пэт