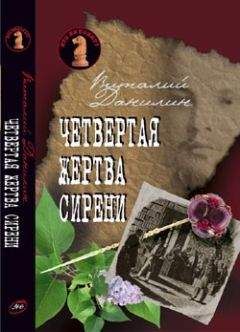— М-м… Затрудняюсь, право… — растерянно пробормотал я.
— А я вам напомню! Вы тогда сказали: «Ежели не тайное общество, так ведь только безумием все эти страсти объяснить можно!» Вот тут-то и мелькнула у меня мысль — слабенькая, правда: «А что если мы и впрямь имеем дело с проявлением психической болезни?» Но в чем она заключалась? Вот что мне предстояло выяснить. Когда мы приехали в Алакаевку и оказалось, что полиция нас упредила, я уже почти не сомневался в том, что полицию направил Пересветов. Кроме него, некому было. Ну, не Витренко же!
— Почему же не Витренко? — возразил я. — Мнето до последней минуты казалось, что преступник — именно Григорий. Да и вы вчера ночью, подбежав к упавшему Евгению Александровичу, вскричали: «Это не Витренко!» Значит, вы тоже думали о виновности Григория. Разве не так?
Владимир как-то странно посмотрел на меня.
— Так или не так, сейчас уже нечего об этом говорить. А Витренко — просто увалень, хороший, бесхитростный человек. Наивный и прекраснодушный. И к тому же до смерти влюбленный в вашу дочь…
Уже потом я узнал, что именно у Григория скрывалась Аленушка первые три дня после побега из дома, и именно Витренко, воспользовавшись ее ключами, проник по просьбе моей дочери — разумеется, в отсутствие Евгения Александровича — в квартиру Пересветовых и заложил в портрет Чернышевского записку с секретной надписью. Но это, повторю еще раз, я узнал потом, а тогда, когда мы шли с Владимиром по Соборной, память подбросила мне картину, на которую я прежде не обратил особого внимания, посчитав болезненным явлением. Вспомнил я, как в Алакаевке, когда валялся я в горячке, узнав об аресте Аленушки, слышались мне голоса. И Владимир с Ольгой говорили о каких-то странных вещах — о Ломброзо, о любви у помешанных, о вменении…
Словно для того, чтобы подтвердить мое воспоминание, Владимир продолжил:
— В Алакаевке, ночью, я поговорил с Ольгой — она ведь готовилась поступать на медицинский факультет университета в Гельсингфорсе,[53] даже учила для этого шведский и финский, и собиралась заниматься именно теми болезнями, которые относятся к невропатии и психопатии. Ольга подтвердила мои подозрения, тем более что она прочитала немало книг по психиатрии и судебной психологии — Ломброзо, Кандинского, Дриля, Фрезе, КрафтЭбинга[54] … Вот там и стал у меня складываться странный, может быть даже, фантастический, на первый взгляд, портрет преступника. А чтобы он прорисовался окончательно, нужно было определить, что связывает между собою жертвы. Все эти молодые люди были похожи друг на друга… Все они погибли в похожих местах — рядом с книжными магазинами… Все были убиты одним и тем же способом… И рядом с каждым лежала веточка сирени…
— Но что из этих общих черт указывает на Пересветова как на того безумца, который совершал все эти ужасные вещи? — недоуменно спросил я. — Теперь-то мы знаем, что это был он. Но для чего он это делал? Как вы догадались об том?
— Вспомните: что стало первопричиной подозрений против Елены Николаевны? — спросил в ответ Владимир.
— Булавка, — ответил я.
— Вовсе нет, — возразил он. — Марченко сказал, что убитый был похож на Пересветова и что якобы Аленушка впотьмах приняла его за своего мужа.
— Да-да, — промолвил я в некоторой растерянности. — Да-да, припоминаю.
— Вот как раз это сходство было важнейшим. То есть, не то, что они были похожи друг на друга, а то, что каждый из них оказался похожим на Евгения Александровича. Помните Нарцисса из греческих мифов? Вот таким Нарциссом и был ваш зять. Очень он любил себя, понимаете? Самого себя.
— Я знаю немалое число себялюбцев, — возразил я. — И все они вполне нормальны. Во всяком случае, окружающие числят их таковыми.
— Очень трудно провести грань между эгоизмом здорового человека и душевной болезнью — вроде той, которой страдал Пересветов, — молвил Ульянов. — Ольга считает, что не всякий доктор это сумеет. Знаете, тут много загадок. Вот ведь, кажется, живет человек нормальной жизнью, а он… — Владимир махнул рукою. — Когда мы впервые посетили вашего зятя, он мне сразу показался человеком не очень здоровым. Надломленным.
— Я тоже был удивлен его состоянием, — признался я. — Однако же я тогда подумал, что он очень переживает о случившемся.
— Поначалу я думал так же, — признался Владимир. — Правда, меня смутили весьма приукрашенные его портреты. Заметьте: ни одного портрета Елены Николаевны, зато чуть ли не на каждой стене красуется хозяин дома. Разбитое зеркало тоже произвело странное впечатление. Но это так, смутные подозрения, не убежденность. Я ведь долгое время не считал Евгения Александровича главным преступником! Грешил на невинного Витренко — по его дурацкой привычке туману напускать. Даже в том, что именно Пересветов выдал полиции убежище Аленушки, не было у меня полной уверенности. И хотя вся история стала складываться в единую мозаику, однако многое в равной степени указывало и на вашего зятя, и на Григория Витренко. Ну, например, сходство погибших между собою и их похожесть на молодого Пересветова. Это ведь могло указывать и на болезненную ревность безответного воздыхателя. Допустим, так: Витренко влюбился в Аленушку, взревновал ее к мужу, а молодые люди, похожие на него, вызывают у него приступы буйной ненависти, приводящей к трагическим результатам. Опять же булавка шляпная — это ведь он ее купил и подарил. А ну как не подарил, а подбросил? История с секретной надписью «Алакаевка» на листочке с опечатками. Ведь в тот день к нам заходили и Пересветов, и Витренко. И оба могли видеть листок с названием на моем столе!
Владимир помолчал немного.
— Но я все это отмел, — сказал он, — потому что в одном серьезном деле Витренко не мог быть замешан.
— В каком же? — спросил я.
— В убийстве на пароходе. Когда мне пришло в голову, что причиной убийства стало еще одно сходство — но уже не Пересветова с жертвами, а ваше с Ивлевым, я задумался: а кто же в Самаре знал о вашем приезде? Кто мог подослать убийцу? И все указывало на Пересветова. Он любил себя — но не так, как себя любят многие из живущих, если не большинство. Он любил себя болезненно, считая собственную персону идеалом. Понимаете? Его представление о себе было представлением об идеальном человеке. Разумеется, он ни за что не сознался бы в этом, никогда и никому. Все это таилось в его душе. И проявлялось в том, что влюблялся он в других — но словно бы в самого себя. Так это объясняют доктора. Так мне пояснила эту особенность Оленька… А в моменты обострения душевной болезни Пересветов приходил в исступление от малейших искажений его реальных черт. Вплоть до того, что готов был разбить зеркало, считая, что отражение ему лжет!
— Ну конечно! — вскричал я. — Когда он приходил к нам, перед нашей поездкой в Алакаевку… У него на шее был порез после неудачного бритья. Я посоветовал ему подойти к зеркалу и убедиться. Так Евгений Александрович был весьма недоволен этим предложением и даже пересел так, чтобы случайно не заглянуть в зеркало…
— Да, я тоже об этом вспомнил, — подхватил Ульянов. — А о других проявлениях его болезни вы мне сами невольно поведали, пересказывая письма Аленушки. И еще его прозвище в железнодорожном училище…
— Полусветов! — воскликнул я. — Да-да, из-за странной переменчивости его натуры!
— Словом, этот человек был серьезно болен. Не знаю, к какому именно типу психопатии относится его болезнь, но суть ее сводилась к тому, что он влюблялся в молодых людей, в которых видел самого себя — однако же идеального, без недостатков, одним из которых он считал свой возраст. Влюблялся, а затем разочаровывался, когда обнаруживал, что очередной образец оказывался обычным, даже заурядным человеком. Вот уж поистине жестокое разочарование. Не думаю, что он вступал с ними в противоестественную связь, хотя именно так полагал его сообщник-исполнитель… — Владимир замолчал.
Это объяснение лишь усилило потрясение, охватившее мою душу. Вместе с тем я был уверен, что Ульянов абсолютно прав — ведь почти все, им рассказанное, нашло подтверждение в нашем последнем разговоре с Евгением Александровичем, разговоре, закончившемся жутким самоубийством моего зятя.
Тут я вспомнил еще об одном обстоятельстве.
— Володя, помните, мы говорили о сокращении сроков между убийствами? — спросил я. — Как вы это можете объяснить?
— Никак не могу, — удрученно сказал Ульянов. — Сам заметил эту особенность, и сам же не могу дать ответ. Возможно, такое… хм… ускорение, что ли, тоже связано с формой болезни. Четыре недели, две недели, одна неделя… Первое убийство, второе, третье, четвертое… Как серия процентных билетов… Серия… А знаете, Николай Афанасьевич, возможно, в будущем подобные убийства так и будут называть — серийными.