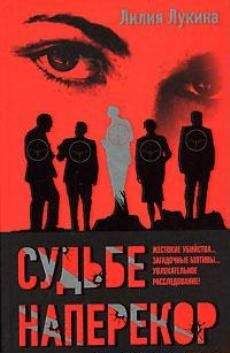Баба Поля замолчала, зажав свои натруженные руки между колен и уставившись в стол. И я поняла, что конец у этой истории очень печальный.
— Только жена Михаила этого — Аллочка его Мишенькой звала — узнала откуда-то, что встречаются они и скандалить сюда прибежала. Аллочка-то ко мне в чуланчик забилась, а я бабу эту со шваброй встретила. Мне-то что? Я санитарка, какой с меня спрос? Вот и рассказала мне Аллочка, что Михаил-то оказывается военный был, хоть я его в форме никогда и не видела. А женился он мальчишкой совсем на вдове командира своего погибшего, пожалел ее, и того не понял, что стерва она редкая, а потом ему деваться уже некуда было. А тут начала его жена по начальству ходить, мужа позорить. Слава богу, что партию отменили уже, но все равно неприятности у него были большие. А раз терять ему уже нечего стало, он с женой и развелся. Получил он назначение новое и предложил Аллочке пожениться и вместе с ним поехать. А куда Аллочка от матери-то денется? На кого она ее больную оставит, когда у них родственников-то никого нет? — баба Поля замолчала и только слезы у нее из глаз, как горох, посыпались... Беззвучные, горькие слезы...
— Баба Поля, не надо, успокойтесь,— попыталась утешить ее я.— Не расстраивайтесь, ничего же уже не воротишь...
— Вот именно, что не воротишь,— баба Поля горестно вздохнула.— В общем, как сейчас помню, пришла Аллочка в тот день на работу причесанная, накрашенная, улыбается мне: «Пусть,— говорит,— он меня красивой запомнит», а в глазах — тоска смертельная, как у собаки умирающей. Смотрю я на нее, вижу, что все уже она для себя решила, и говорю тихонько: «Я вам там чистенькое постелила, потешьтесь напоследок», а у самой сердце кровью обливается. Сижу я у соседки, жду, когда они уйдут, чтобы в комнатку свою вернуться, а они все там.
А время уже к одиннадцати, спать пора... Испугалась я — не случилось ли чего? Пошла. А тут и Мишенька мне навстречу идет. «Прощайте,— говорит,— баба Поля. Спасибо вам за все,— и деньги мне в руку сует.— Вот, купите себе что-нибудь на память обо мне,— и рукой махнул.— Эх,— говорит,— судьба у меня по фамилии, такая же горькая!»,— и ушел. А я в комнату зашла, за столом Аллочка сидит, голову на руки положила и рыдает. Как же она плакала! Словно сердце у нее разрывалось! Душа с телом расставалась! — старушка не выдержала и тихонько застонала.
— Ну, не надо, баба Поля, не надо. Вам же плохо будет! — пыталась я успокоить ее, гладя по голове, по руке.— Ну вот чаю попейте, вы же не пили его совсем,— я поднесла чашку к ее губам и она немного отпила.
Постепенно она успокоилась, вытерла слезы, выпила еще немного чая. Я ждала продолжения рассказа, но она молчала. Наконец, я не выдержала.
— Баба Поля, так чем же это все закончилось?
— А чем это могло закончиться, дочка? Затихла Аллочка, посидела еще немного, а потом подняла голову, заглянула я ей в лицо и сердце у меня зашлось — сникла она, погасла, как будто кто свечу, что все это время у нее в душе горела, задул. Умылась — у меня в уголке рукомойничек висит, причесалась, улыбнулась мне горько и говорит: «Вот и побыла я счастливой. Будет, что на старости лет вспомнить!». И не стало больше Аллочки. Исчезла она, умерла. А на смену ей Алла Викентьевна появилась — старая, поникшая женщина, с глазами потухшими, только с виду живая. С тех пор уж, почитай, восемь лет прошло, а она все вот так и живет... А вроде и не живет... Махнула она на себя рукой... Стороной ее счастье прошло... Правильно говорят: не родись красивой, а родись счастливой. Вот так-то, Леночка!
— А мать ее жива еще?
— Нет, год назад умерла. Вот Аллочка теперь одна и живет, а, скорее, доживает. А ты, дочка, на нее обиделась! — и старушка укоризненно покачала головой.— Не суди, не зная, Леночка... Ох, не суди!
— Спасибо за чай, баба Поля,— сказала я, поднимаясь.— Вы здесь еще побудете?
— А я целыми днями здесь, домой только спать хожу. Что мне там делать-то? Здесь я на людях, хоть какая-то польза от меня есть. Вот с тобой посидела, поговорила, утешила, чем могла. А дома? Я ведь, дочка, одна, как перст одна,— и она, испугавшись, что я подумаю, будто она жалуется, постаралась улыбнуться.— Ты ступай себе, дай-то бог, чтобы у тебя все хорошо в жизни сладилось.
— Тогда я погожу прощаться, я сейчас вернусь.
— Ты чего это задумала? — всполошилась баба Поля, но я уже шла по коридору к выходу на улицу.
В ближайшем гастрономе я купила большую жестяную банку цейлонского чай, килограмм разных шоколадных конфет и большой торт. Увидев все это, старушка всплеснула руками.
— Да зачем же ты это, дочка?
— А это за здоровье моего ребенка,— твердо заявила я.— От этого вы отказаться не можете.
Она в ответ перекрестила меня.
— Храни тебя бог, Леночка, а ребеночка твоего особо.
Снова проходя коридором, я через выходящее во двор окно увидела на крыльце запасного выхода Боровскую. Она курила и задумчиво смотрела на стоящий во дворе длинный одноэтажный дом, и я поняла, что именно там, в одной из маленьких комнатушек с рукомойничком в уголке навсегда похоронено ее короткое и единственное в жизни счастье.
Я села в машину и задумалась. Вот она, та нечаянная радость, о которой говорила старая цыганка — у меня будет ребенок, ребенок от Бати. А радость ли это для меня? Может быть, я погорячилась, сказав, что хочу сохранить ребенка? Хочу ли я его? Да, поразмыслив, решила я, хочу! Очень хочу! Наверное, не только в память об Игоре я стараюсь помогать другим людям, но и потому, что мой нереализованный материнский инстинкт требует выхода: согреть, приласкать, утешить... Мама с папой... Да они будут несказанно счастливы получить долгожданного внука, заберут его к себе и с рук не спустят, хорошо, если хоть иногда дадут на него посмотреть... Так что, прав папа, не придется мне отказываться от своей привычной жизни. Но это в том случае, если все будет нормально, а если нет? Если я уже непоправимо навредила своему ребенку, ведь, действительно, и выпивала, и курила, а о нервотрепке и говорить нечего. А я сама? Как на мне скажется рождение ребенка? Вдруг это подкосит меня настолько, что я стану инвалидом? Пока живы родители, бояться нечего ни мне, ни ему. А потом?
Нет, все это надо как следует обдумать, обследоваться на молекулярном уровне и только потом решать, имею ли я право давать жизнь новому человечку. И, если есть хоть малейший риск, что он может родиться неполноценным или я сама могу превратиться в развалину... Нет, это будет безответственно. По отношению к моему ребенку безответственно. И тогда, как ни страшно об этом думать, но придется... Но я не хочу этого! Я хочу ребенка! Голубоглазого светленького малыша... На глаза навернулись слезы, а в горле появился тугой комок, который я никак не могла проглотить. Я хочу ребенка! И не отдам я его родителям, я сама буду с ним возиться, смотреть, как он растет, говорит первые слова... И я все-таки разрыдалась. Ну почему жизнь такая несправедливая? Почему мы не можем быть умными вовремя? Почему понимание истинных ценностей приходит так поздно?
С трудом успокоившись, я стала думать, что же мне теперь делать. Шпильки долой, сигареты — само собой. И, главное, нормально питаться — фрукты, овощи, витамины там всякие — ведь мой маленький кушать хочет, и я почувствовала, как на губах сама собой появляется улыбка. Вот именно, он хочет кушать, а его дура мама думает черт знает о чем. Не волнуйся, малыш, сейчас мама купит тебе много-много вкусных вещей.
Я завела машину и поехала на рынок, по дороге разговаривая со своим ребенком: «Ты только не волнуйся, маленький, твоя мама найдет самого лучшего в городе специалиста, который точно нам скажет, как себя вести, чтобы мы с тобой оба были здоровенькие. Ты прости меня, что я так плохо себя вела, но ведь ты мне вовремя не сказал, что ты у меня уже есть».
Я ходила по рядам рынка и прислушивалась к малышу, пытаясь понять, что он хочет, потому что я сама не хотела ничего — один вид разложенных на прилавках продуктов вызывал у меня отвращение. Наконец, я увидела старушку со стареньким, со всех сторон обитым, но чистеньким эмалированным бидончиком с привязанной к дужке крышечкой, заглянула туда и мой рот непроизвольно наполнился слюной — там лежали соленые помидоры. Вот оно, поняла я, вот оно, что мне так сейчас необходимо.
— Сколько? — спросила я, заранее готовая заплатить любую цену.
— Пятьдесят рублей кило,— сама пугаясь произнесенной цифры, сказала старушка.
— А сколько здесь?
— Два кило. Только пакетика у меня нет,— она засуетилась, сама не веря тому, что кому-то среди лета понадобились ее сморщенные, чудом сохранившиеся помидоры.
Я достала двести рублей, подумала и добавила еще сто.
— Вот, бабушка, я вместе с бидончиком возьму, а вы уж себе новый купите. Хорошо?
— Так много же,— испугалась она.— Бидончик-то столько не стоит.
— Значит два купите,— решительно сказала я и схватилась за дужку.— Так я беру?