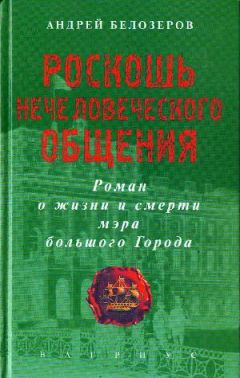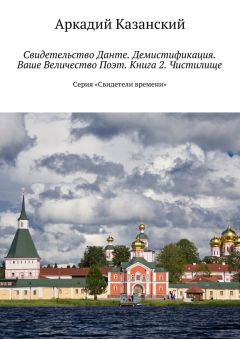Крюков вдруг застыл, окаменел, даже дрожь, измучившая его совершенно, даже она прекратилась. Он вспомнил. Вспомнил, в чем заключалась суть конфликта. Вспомнил, о чем говорил в пьяно-наркотическом угаре Виталя и за что ударил его третий, безымянный бандит. Вспомнил, что после случившейся ссоры ему налили еще стакан, потом куда-то тащили… Что значит — куда? Сюда и тащили. В эту яму… Нет, до ямы он, вероятно, добрался сам. Из помещения его вывел Виталя, этот, старший, что-то шептал ему на ухо. А Виталя просто вывел Крюкова на улицу, дал еще хлебнуть из бутылки и толкнул в спину. Дальше, вероятно, включился тот самый «автопилот», но направление было уже утеряно, Крюков в сомнамбулическом состоянии добрел до ямы и свалился в нее, мгновенно выключившись.
Тот третий — в нем и была загвоздка. Что же он говорил, за что накинулся на болтливого Виталю? Именно это не давало Крюкову сейчас собраться и двинуться вперед, с тем чтобы пройти хоть и неприятный, но привычный и не страшный путь возвращения в собственную квартиру.
Крюков разматывал события прошедшей ночи, и чем яснее они вставали перед глазами, чем конкретней всплывали в памяти обрывки диалогов, звучавших в сторожке, тем сильнее охватывал его столбняк, тем глубже проникал во все его существо леденящий ужас.
«Почему я паникую? — думал Крюков. — Ведь меня лично это никаким боком не касается… Приятного, конечно, мало, но… Это все похмельные дела… Депрессия. Выдуманные ужасы. В первый раз, что ли?.. И потом, куда я сейчас, в таком виде?.. Это несерьезно… Нужно ехать домой, ложиться спать. Или нет. Переодеться, сходить в магазин, взять чего-нибудь, вдумчиво опохмелиться, а потом уже спокойно подумать, что можно сделать, да и вообще — нужно ли что-то предпринимать или разумнее пустить все дело на самотек. Кто они мне? Друзья? Родственники? Они мне никто. Они, они первые виноваты в том, что происходит… И со мной в том числе…»
Так ничего и не решив, Крюков махнул рукой и побрел по направлению к сторожке. И в самом деле, для начала нужно было переодеться, привести себя в более или менее человеческий вид, а потом уже принимать решения.
«Рисковать мне собственной шкурой ради этих игроков в политику или оставить все как есть? — продолжал размышлять Крюков. — Нет, пусть сами разбираются в своих интригах. А то даже как-то странно — сидел себе тихо-мирно, декларировал полную аполитичность и тут вдруг брошусь на амбразуру… Бред какой-то. Похмелье это все. И трава. Черт меня дернул курить эту дрянь. Бандиты — понятно, они от таких стимуляторов и становятся отмороженными на всю голову. А мне-то это к чему? Мучайся теперь, мудак… Любитель экстремальных удовольствий! Надо же, на старости лет потянуло на эксперименты… Козел, одно слово».
Крюков приблизился к зданию администрации. Официально рабочий день еще не начался, и первым человеком, которого увидел Гоша, был его напарник.
— О! Мать твою! — хмуро сказал Миха. — Ты откуда? Е-мое… Ты что, в могиле ночевал, Крюк?
— Ага, — ответил Гоша.
— Ну ты, блин, дал… Тебя же домой отправили вчера… Ты что, значит, всю ночь вот тут? — снова спросил Миха, и голос его зазвучал как-то растерянно.
— Ну да. Пошел, понимаешь, напрямик, через свалку. Да, видно, на ходу вырубился… Так и уснул. Только что проснулся…
— Ага… Вот, значит, как… И что — так и спал?
— Ну да. Так и спал.
— Ох, — покачал головой Миха. — Слушай… — Он шагнул к Крюкову и взял его за рукав. — Ты вчера опять дал… Ты бы завязывал, Крюк. Такое буйство тебя до добра не доведет… Неуправляемый ты, в натуре, делаешься…
— Да? А что такое? Я что, буянил вчера, что ли? Расскажи-ка. Я не помню ничего.
Крюков все помнил. Или, во всяком случае, почти все. Но внимание и какой-то немой вопрос в глазах Михи заинтриговали его, и теперь ему хотелось выяснить, чего же добивается от него напарник. А он явно хотел что-то выяснить, только боялся обозначить свой вопрос, не решался спросить прямо.
— Ну так… Не особо. Нес всякую херню.
— Какую?
— Да бред разный… Ты в самом деле, что ли, ни хрена не помнишь?
— Не-а, — нарочито безразлично ответил Гоша. — Как отрезало. Водка такая, что ли? С димедролом или с чем еще… Мозги начисто выключает.
— Это точно. У тебя-то выключает… Давай, Крюк, завязывай, ей-богу…
— А что было-то? — продолжал допытываться Гоша. — Не грубил я там никому?
— А кому? — быстро переспросил Миха.
— Ну… С кем мы там сидели?
— С кем?
— Ты чего, Миха? К тебе ведь пацаны приходили. Это с ними, что ли, я сцепился?
— Сцепился… Ты скажи спасибо, что пацаны правильные были. А то сцепился… Ты бы как сцепился, так и… Кранты, в общем, тебе были бы. Это люди серьезные, ты смотри, лишнего не болтай…
— О чем?
— О ребятах этих. Ребята серьезные.
— А чего они к тебе приходили, эти «серьезные»?
— Так… — неохотно ответил Миха. — Заказик один им нужно сделать…
— Что за заказик?
— Ну, просили помочь там… Короче, это не важно. — Миха испытующе посмотрел на Крюкова. — Да-а… Совсем ничего не помнишь? И как дурь курил, тоже не помнишь?
— Дурь? Я? Да я в жизни наркоты не…
— Ладно, с тобой все ясно. — Миха опять покачал головой. — Тебе почиститься бы, что ли…
— Ага. Есть там у тебя ватничек какой? И штаны?
— Найдем.
Через пятнадцать минут Крюков уже топтался на троллейбусной остановке. Как он и предполагал, Миха выдал ему полный комплект одежды — потертый, грязноватый черный ватник без воротника, какие носят заключенные на зоне, солдатские галифе и кирзачи, дышащие на ладан, но способные выдержать путь от кладбища до центра города, где находилась Гошина квартира. Сапоги, правда, были размера на два меньше, чем требовалось Крюкову, и от этого его походка, и без того неуверенная, приобрела совсем странный, танцующий характер.
Несмотря на кажущуюся легкость передвижения, чувствовал себя Гоша хуже некуда. Похмелье, усугубленное непривычным для него действием марихуаны, да не простой, а, по словам вчерашнего Витали, какой-то особенной, мучило Крюкова с невиданной силой. Земля уходила из-под ног, голова болела с каждой минутой все сильнее, застывшее за ночь тело ломило, и, в довершение всего, кажется, начала подниматься температура.
Троллейбус оказался набит битком.
«Откуда здесь люди-то? — с недоумением подумал Крюков. — Место совершенно нежилое…»
Гоша втиснулся в салон, наступая на чужие ноги, ввинтился в плотно спрессованную массу человеческих тел и расслабился — толпа держала его, не давая завалиться в сторону. Он мог бы даже поджать ноги и повиснуть — спины, плечи, локти, давящие со всех сторон, в любом случае удержали бы его тело в вертикальном положении. Что бы с Гошей ни произошло — потеряй он сознание или, не дай бог, умри в этом троллейбусе, — так и ехал бы до центра, до той остановки, где выходит основная масса пассажиров.
Троллейбус качало, дергало, волны запахов — пивной перегар, дешевая косметика, испарения немытых тел, тонкая, кислая вонь старой, заношенной и застиранной в дешевых стиральных порошках одежды — накатывали на Гошу. Его начало тошнить, и вместе с тошнотой поднялась тяжелая, донная волна ненависти.
«Что я волнуюсь об этих гадах? — думал Крюков. — Что мне все неймется? Пусть они решают свои проблемы сами. А люди… люди как при совке корячились в этой давке, так и теперь. Ничего не изменилось. Эти их игры в политику… Какой здравомыслящий человек может хотя бы на секунду вообразить, что все делается ради вот этого народа, который трясется в троллейбусах каждое утро, который ради несчастной копейки целый день пашет на опостылевшей работе за нищенскую зарплату, при том что и платить-то ее уже никто не платит, вернее, платит, когда хочет и сколько хочет, который за эти жалкие гроши, за подаяние, считай, горбатится всю жизнь? Что ими движет, кроме личного обогащения, будь оно неладно? Что они сделали для общества, суки, что?! Ведь никто их под дулом пистолета не тащил в эту сраную политику, сами пошли. Так будьте любезны, господа. Принимайте условия игры. Либо вы — нормальные люди, то есть, заняв государственный посты, став государственными чиновниками, работаете на государство, сиречь на благо этого самого народа, именем которого вы так мило манипулируете. Либо, если вы этого не делаете, вы — мразь, подонки и негодяи, суки, волки позорные, крысы… Крысятничеством, выходит, занимаетесь, если не отдаете себя полностью служению народу… Решили для себя, очень быстро решили проблему — твари они дрожащие или право имеют. Ладно. Только кто им сказал, что они это право имеют? И хорошо ли им теперь живется? Господин Суханов в тюрьме, сидит полгода, и сколько будет сидеть, никому не ведано. Журковский в больнице, одна операция за другой, и конца этому не видно. Это лишь при его жене можно бодриться и говорить, что муж идет на поправку, — на самом деле, там все очень плохо. Врач сказал… Вчера это было или позавчера?… Не важно. Время остановилось. Просвета в этом мраке не видно. Так, следим за мыслью…»