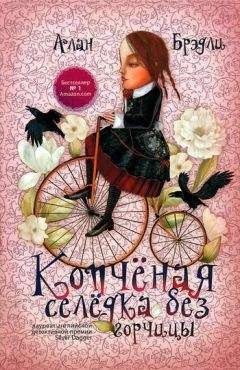К счастью для Фели, carica digitata не растет в Англии. К счастью для меня, здесь водится болиголов пятнистый. Знаю я болотистый уголок в низине Ситона, меньше чем в десяти минутах от Букшоу, где он растет. Могу съездить туда и вернуться до ужина.
Недавно я обновила свои записки касательно кониина, действующего вещества болиголова. Я извлеку его дистилляцией с помощью подручной щелочи — возможно, небольшого количества двууглекислого натрия, который я держу в лаборатории на случай кулинарных излишеств миссис Мюллет. Затем замораживанием и рекристаллизацией я удалю переливающиеся частицы менее сильнодействующего конгидрина. Получится почти чистый кониин с чудесным слабым запахом, и понадобится меньше чем полкапли этого маслянистого вещества, чтобы расплатиться по старым счетам.
Возбуждение, рвота, пена изо рта, жуткие судороги — я загибала пальцы по пути:
— Благословенный цианид,
Быстродействующий мышьяк,
Как попало брошу в суп.
Зажгу похоронные свечи,
Закажу скобы для гроба,
Проучу за шутки над Флавией де Люс!
Мои слова эхом отражались от высокого расписного потолка фойе и галерей из темного полированного дерева наверху. Если не учитывать тот факт, что я не упомянула болиголов, этот маленький стишок, который я сочинила по совершенно другому случаю, идеально выражал мои сегодняшние чувства.
Я пробежала по черно-белой плитке, затем вверх по изгибающейся лестнице в восточное крыло дома. Крыло Тара, как мы его называли, получило свое имя в честь Тарквиния де Люса, одного из старых дядюшек Харриет, обитавшего в Букшоу до нас. Дядя Тар провел большую часть жизни, запершись в великолепной викторианской химической лаборатории в юго-восточной части дома, исследуя «толику вселенной», как он написал в одном из писем к сэру Джеймсу Джинсу, автору «Динамической теории газов».
Прямо под лабораторией, в длинной галерее, есть портрет дяди Тара. На нем он поднял взгляд от микроскопа, поджав губы и нахмурив брови, как будто некто с мольбертом, палеткой и коробкой с красками грубо ворвался к нему в тот момент, когда дядя готовился открыть элемент делюсиум.
«Отстаньте! — ясно говорило выражение его лица. — Отстаньте, оставьте меня в покое!»
И они оставили его, а впоследствии и дядя Тар оставил нас.
Лаборатория со всем своим содержимым уже несколько лет принадлежала мне. Никто не заходил сюда, что хорошо.
Когда я полезла в карман за ключом, что-то белое выпорхнуло на пол. Это оказался носовой платок, который я одолжила Ниалле на церковном кладбище, и он до сих пор был влажным.
В моем сознании возник образ Ниаллы, какой я ее увидела в первый раз, — лежащей ниц на пострадавшем от времени могильном камне, с волосами, расплескавшимися, словно рыжее море, и горячими слезами, шипевшими в пыли.
Все встало на место, словно механизм в замке. Конечно же!
Возмездию придется подождать.
Парой маникюрных ножниц, которые я украла с туалетного столика Фели, я вырезала четыре влажных круга из льняного платка, стараясь избегать зеленых пятен, которые я на нем оставила, и выбирая только те участки, которые были противоположны пятнам по диагонали, куда плакала Ниалла.
Их я пинцетом затолкала в пробирку, куда затем впрыснула трехпроцентный раствор сульфосалициловой кислоты, чтобы осадить белок. Это так называемый тест Эрлиха.
Работая, я с удовольствием размышляла о том, как глубоко великий Александр Флеминг изменил мир, внезапно чихнув в чашку Петри. Это та разновидность науки, что дорога моему сердцу. Кто, в конце концов, может честно сказать, что никогда не чихал на культуру бактерий? Это могло случиться с каждым. Это случалось со мной.
Чихнув, потрясающе наблюдательный Флеминг заметил, что бактерии в чашке избегают, словно в ужасе, частиц разбрызгавшейся слизи. Вскоре он выделил конкретный протеин в своих соплях, отпугивавший бактерий примерно так же, как собака с пеной в пасти заставляет держаться подальше от нищих. Он назвал его лизоцим, и именно это вещество я сейчас тестировала.
К счастью, даже в разгар лета в фамильных залах Букшоу холодно и сыро, как в пресловутом склепе. Температура в помещениях восточного крыла, где располагается моя лаборатория, — несмотря на отопление, злонамеренно установленное воюющими братьями только в западном крыле некогда политически разделенного дома, — отродясь не превышала шестидесяти градусов по Фаренгейту,[16] что, на мое везение, является именно той температурой, при которой лизоцим выпадает в осадок, когда добавляется сульфосалициловая кислота.
Я наблюдала, зачарованная, как начала формироваться дымка из кристаллов, их белые частицы осторожно дрейфовали в маленькую зиму внутри пробирки.
Следующим шагом я зажгла бунзеновскую горелку и аккуратно подогрела мензурку с водой до семидесяти градусов.[17] Это заняло немного времени. Когда термометр показал, что все готово, я окунула дно пробирки в теплую ванну и нежно его покрутила.
Когда новообразованный осадок растворился, я испустила вздох удовольствия.
— Флавия. — В лабораторию проник голос отца. Он пересек вестибюль, проплыл по изогнутой лестнице, проник в восточное крыло и проложил путь по длинному коридору в его самую южную часть, просочился сквозь закрытую дверь, столь же легкий, как будто его принесло в Англию из Дальней Фулы.[18]
— Ужин, — мне показалось, что я слышу, как он это говорит.
— Это чертовски раздражает, — заметил отец.
Мы сидели за длинным узким обеденным столом, отец в дальнем конце, Даффи и Фели по бокам, а я в самом низу, на мысе Кейп-Хорн.
— Это чертовски раздражает, — повторил он, — сидеть и слушать, как кое-чья дочь сознается, что похитила у кое-кого одеколон для проклятых химических опытов.
Не важно, буду я отрицать или признаю вину, отец сочтет это одинаково раздражающим. Я просто не могла выиграть. Я научилась, что лучше всего хранить молчание.
— Черт побери, Флавия, я только что купил эту проклятую бутылку. Я же не могу поехать в Лондон по такой жаре, воняя, как испортившаяся свиная лопатка, не так ли?
Отец бывал более чем красноречив, когда злился. Я слямзила бутылочку «Роже и Галле», чтобы наполнить пульверизатор, которым мне надо было обрызгать дом после эксперимента, связанного с сульфидом водорода и оказавшегося захватывающе неудачным.
Я покачала головой.
— Извини, — сказала я, принимая вид висельника и промакивая глаза салфеткой. — Я бы купила тебе новую бутылочку, но у меня нет денег.
Фели рассматривала меня через длинный стол в молчаливом презрении с таким видом, будто я жестяная утка в тире. Нос Даффи прочно уткнулся в Вирджинию Вульф.
— Но я могу сделать тебе порцию, — жизнерадостно предложила я. — Это ведь просто спирт, цитрусовые масла и садовые травы. Я попрошу Доггера нарвать немного розмарина и лаванды и возьму апельсины, лимоны и лаймы у миссис Мюллет…
— Ничего подобного вы не сделаете, мисс Флавия, — заявила миссис Мюллет, пробиваясь — в буквальном смысле — в зал, она распахнула дверь обширным бедром и поставила большой поднос на стол.
— О нет! — услышала я, как Даффи шепчет Фели. — Снова «слизень».
«Слизень», как мы его называли, — это десерт по собственному рецепту миссис Мюллет, который, насколько мы смогли определить, состоит из свернувшегося зеленого желе в оболочке из-под колбасы, покрытого сверху двойными девонширскими сливками и украшенного веточками мяты и прочими разнообразными растительными отходами. Он лежал на подносе, непотребно колыхаясь время от времени, словно некий гигантский омерзительный садовый слизняк. Я не смогла сдержать дрожь.
— Аппетитно, — заметил отец. — Как же аппетитно.
Он говорил с иронией, но антенны миссис Мюллет не настроены на сарказм.
— Я знала, что вам понравится, — сказала она. — Не далее как сегодня утром я говорила Альфу: «Альф, давненько полковник и девочки не ели мое чудесное желе. Они всегда высказываются по поводу моих желе, — (что правда), — и я люблю готовить их для моих дорогих».
Фели издала звук, словно мучимый морской болезнью пассажир у перил «Королевы Мэри», пересекающей Северную Атлантику в ноябре.
— Кушайте, дорогие, — сказала миссис Мюллет, ничуть не обеспокоившись. — Это вкусно. — И с этими словами она ушла.
Отец уставился на меня одним из своих фирменных взглядов. Хотя он взял последний выпуск «Лондонского филателиста» за стол, как всегда, он его не открывал. Отец — страстный, чтобы не сказать — яростный коллекционер почтовых марок, его жизнь целиком посвящена разглядыванию через лупу кажущегося бесконечным запаса маленьких цветных головок и пейзажей. Но сейчас он не смотрел на марки, он уставился на меня. Плохое предзнаменование.