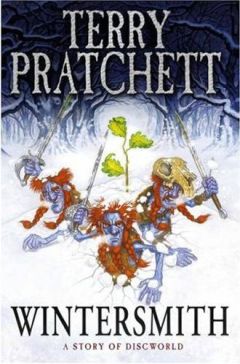- Я позволила себе пожить как принято, не скупясь на возвышенные мысли. Зарабатывала на хлеб с маслом в детройтской газете "Фри пресс" и писала в мелкие журналы ради интереса. Потом познакомилась с человеком, который предложил устроить меня в Голливуд, и я позволила ему продать меня туда. Мне надоело жить в однокомнатной квартире и до полуночи штопать свои чулки. А теперь я их просто выбрасываю. И начала это делать еще до войны.
- Чулки или долларовые бумажки?
- Пятидолларовые.
После этих слов он на некоторое время замолчал.
- Думаю, вам не нравится, что я читаю вам мораль, - вымолвил он потом.
- Не особенно. Не понимаю, откуда у вас это. Уж не учились ли вы на священника?
- Нет. - Но, к ее удивлению, он добавил: - Мой отец учился. Впрочем, так и не закончил семинарию. Разочаровался в вере и стал профессором философии, а не священником. Его религиозные убеждения переросли в страсть к моральным ценностям. Он стал просто одержим вопросами морали, особенно после смерти матери.
- Сколько вам было лет, когда она умерла? - У нее уже появился типичный симптом влюбленных, их самое горячее желание - узнать друг о друге все возможное, с самого начала. - Вы были ребенком?
- Думаю, мне было четыре. Четыре или пять лет.
- Это ужасно. От чего она умерла?
На его лице пропало всякое выражение. После непродолжительного молчания он ответил:
- Не знаю.
- Но разве отец не сказал?
- Нет, - ответил он коротко. - Отец был странный человек, ужасно застенчивый и скромный. Думаю, ему следовало бы быть монахом.
- Как он выглядел? - спросила Паула. - Думаю, что мне бы он вряд ли понравился.
- Не понравился бы. Но и вы бы ему не понравились. Приходилось ли вам видеть портрет Мэтью Арнольда? Он был похож на него. Удлиненное серьезное лицо, умное, но тяжелое, будто несчастное. Он был несчастным человеком.
- Вы, наверное, с радостью от него уехали.
- Это было нелегко сделать. Даже после его смерти я продолжал находиться под его влиянием. В то время я учился в Чикагском университете и пытался отделаться от наследия предков, но душа у меня не лежала к этому. Тогда-то я и узнал, что не могу пить.
- Что же случилось? - Она задала этот вопрос как можно более индифферентно, но с нетерпением ждала ответа.
- Несколько раз я напивался и каждый раз ввязывался в драку. Пятнадцать лет у меня накапливалась агрессивность, и она прорывалась в барах. Наверное, это наиболее подходящее место, чтобы проявить свои животные инстинкты.
- Вы имеете в виду агрессивность против самого себя? Вы что, ненавидели своего отца?
- Я никогда себе в этом не признавался, но думаю, что да. Долгое время я не смел даже думать ни о чем таком, что бы он не одобрил. Отец никогда не тронул меня и пальцем, но вселил в меня священный страх. Конечно, я его и любил тоже. Вам кажется это слишком сложным?
- Кажется, но это не сложнее, чем жизнь.
Она подумала о собственном отце, который был антиподом прародителя Брета, легко относившимся к жизни, крепко выпивавшим торговцем; он все реже навещал семью и, наконец, вообще пропал. В юности она его презирала, но теперь осталось лишь чувство нежной терпимости к нему. Терпимость была самым сильным чувством, которое она до сих пор испытывала к кому бы то ни было.
Неожиданная полуденная прохлада преодолела тепло солнца и заставила их вернуться в гостиницу. Но после ужина они опять вышли погулять к морю, как будто оба признали, что море служит катализатором их встреч. В темноте, под пальмой рядом с тропинкой, он впервые поцеловал ее, кинувшись к ней так неожиданно, с такой отчаянной решимостью, как будто напал на нее из засады. В его поцелуе была какая-то трогательная сухость, как будто тропическое солнце иссушило его жизненные соки. Он отпустил ее так быстро, что она не успела ответить.
Незаконченность его поцелуя в общем-то не имела значения. В ней уже зародилось нечто новое после утра, проведенного с ним на берегу моря. Шум прибоя наполнился различными отзвуками, а ночь стала более величавой, чем когда-либо раньше.
Он прибыл издалека, из немыслимого места, где самолеты взмывают с палубы авианосцев и пользуются средствами связи в боевых условиях. Она остро чувствовала, что океан протянулся гораздо дальше границ ее видения, изгибаясь во тьме за неясным горизонтом в направлении островов и нейтральных вод, куда докатилась война. Ее охватило какое-то наваждение, которое уже не оставляло ее никогда: она стоит на краю туманной бесконечности, где с ней может произойти все что угодно - горе, экстаз или смерть. И ей пришлось пережить все эти три состояния.
Глава 4
Теодор Клифтер наблюдал за ней по мере того, как она рассказывала, изредка поглаживая окладистую бороду. Он отрастил ее случайно в тот период, когда нечем было бриться, - ему пришлось работать среди заключенных, которым не выдавались бритвы из опасения, что они перережут себе горло, - и он решил сохранить ее, как память. Верхняя часть его лица была закрыта очками с толстыми стеклами, которые увеличивали его размеры, но несколько смазывали выразительность, как будто между лицом и вами находилась стеклянная стена.
Его восхищение Паулой содержало в себе и критический элемент, хотя он всегда отдавал особое предпочтение высоким женщинам с длинными каштановыми волосами, похожими на волосы его матери, которые, когда он был ребенком, ему позволялось расчесывать по вечерам. Паула не относилась к очень умным женщинам, что ему тоже нравилось в ней. Клифтера раздражал резкий контраст между суровым содержанием их беседы и яркими проявлениями эмоциональной женственности ее натуры. Но она была честной и отдающей себе в этом отчет женщиной. Паула знала, что ей нужно, и могла спокойно дожидаться своего часа. Она могла выдержать большую страсть, не впадая в моралистские тривиальности, слишком романтическую церемонность. Хотя любовники других людей были в работе Клифтера наиболее тяжелой темой, его не мог не заинтересовать мужчина, вызвавший любовь такой женщины.
На ее спокойном лице виднелись следы тяжелого дня, но она сразу же погрузилась в свой рассказ, как только устроилась в его гостиной с бокалом вина в руке. Он не прерывал ее, так как понимал, что она собралась с духом, и он не хотел ее расхолаживать.
- Вы уже знаете, что в апреле прошлого года у него было сильное потрясение, когда его корабль попал под бомбежку? Это был один из самолетов, который шел на таран, японцы так часто поступали в последние месяцы войны. Многие члены экипажа погибли, а сам Брет был серьезно ранен и оказался в воде. Его подобрали со спасательной лодки и самолетом отправили в Гуам. Там он лечился в военно-морском госпитале. В то время я об этом ничего не знала, но его жена была в курсе.
Когда он пробыл в Гуаме четыре недели, руководство госпиталя решило, что он может лететь домой для окончательного выздоровления. Его ожоги зажили, и он не проявлял никаких признаков умственного расстройства, во всяком случае, в его медицинской карточке ничего такого не записано. Он прибыл в Сан-Франциско после ночного перелета с Гавайских островов и после небольшой задержки из-за некоторых бюрократических формальностей сел на поезд до Лос-Анджелеса. Доехал до дома примерно в половине десятого вечера, но жены дома не оказалось.
- Где же она была?
- В городе, в одном из баров. Бармен ее немного знал и на следующий день сообщил полиции, что она побывала в его заведении. Видите ли, она не знала точно, когда приезжает Брет. Он сам заранее не знал, когда ему удастся сесть на самолет из Гуама, но даже если бы ему это было известно, он бы не смог ее уведомить из-за цензуры. Ему бы следовало дать телеграмму из Сан-Франциско, но, полагаю, он решил преподнести ей сюрприз, неожиданно свалиться на голову. Как бы там ни было, но дома ее не оказалось. Он расстроился и почувствовал себя одиноко, поэтому решил позвонить мне. За всю жизнь я не испытала такой радости, как от этого звонка. В тот вечер мне было все равно, женат он или нет. Я заехала к нему домой, и мы решили прокатиться.
- Как он вел себя?
- Прилично. Чересчур прилично.
- Это не совсем то, что меня интересует...
- Догадываюсь, - заметила она с легкой улыбкой. - Он казался в основном таким же, как всегда, только был еще более молчалив. Со мной держался на расстоянии до такой степени, что я удивлялась, зачем он вообще мне звонил. Он не захотел говорить ни о своей службе, ни о бомбардировке. Сведения, которые я смогла из него выудить, походили на краткую сводку. Он не скрывал беспокойства о жене. Миновав Сансет, по автостраде мы направились в сторону Малибу, но уже через час Брет попросил меня вернуться.
- Значит, ему не терпелось увидеть ее?
- Да, я заметила его нервозность, которая могла указывать на это. Конечно, в нервозности не было ничего необычного, если учесть все, что ему пришлось пережить. Он еще больше похудел, а ведь и раньше не отличался полнотой. Он чуть ли не дергался, когда мы подъехали к его дому, и почему-то попросил меня зайти вместе с ним в дом. Меня не прельщала идея присутствовать при его встрече с женой, но он почему-то настоял на своем. Думаю, хотел быть с ней честным, не обманывать даже в такой малости, как прогулка в машине. Поэтому я вошла в дом. - Она сделала большой глоток из бокала.