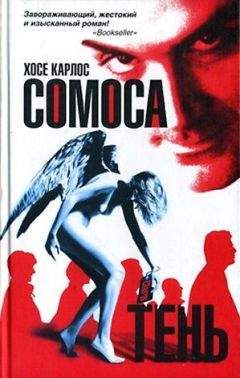— Мне плохо. Я стараюсь все делать как можно лучше, но мне плохо, потому что вы меня презираете. Я думаю, вы сумасшедший или сволочной козел и сукин сын, а может, и то, и другое — сумасшедший сволочной козел и сукин сын. Я ненавижу вас и думаю, вы сами хотели, чтоб я вас ненавидела. Не выношу, когда меня презирают. Раньше вы меня возбуждали. Клянусь. Меня возбуждало чувствовать себя в ваших руках. Сейчас уже нет. Мне теперь на вас плевать с высокой башни. И вот я тут стою.
Когда она закончила, то поняла, что ван Тисх ее даже не слушал. Он все смотрел ей в глаза.
— Что вы почувствовали после смерти отца? — спросил ван Тисх.
— Облегчение, — сразу ответила Клара. — У него была жуткая болезнь. Он долго лежал на диване и пускал слюни. Пердел прямо передо мной и улыбался, будто он животное. Один раз его вырвало в столовой, он нагнулся и стал копаться в рвоте. Он был болен, но я этого не могла понять. Мой папа всегда был воспитанным, образованным человеком. Он обожал классическую живопись. Это существо не было моим отцом. Поэтому его смерть принесла мне облегчение. Но теперь я знаю, что…
— Замолчите, — не повышая тона, сказал ван Тисх. — Почему вы так боитесь, что кто-то зайдет ночью к вам в комнату?
— Я боюсь, что мне сделают больно. Я боюсь, что мне сделают больно. Я говорю вам все, что знаю.
Ветер усилился. Висящий на ветке ближайшего дерева халат покачнулся и в конце концов упал, но Клара об этом не узнала.
— Искренность нам дается с трудом, правда? — проворчал ван Тисх. — Нас учили, что это — противоположность лжи. Но скажу вам одну вещь. Для многих искренность — не что иное, как обязанность не говорить неправду. Это тоже притворство.
— Я стараюсь быть искренней.
— Но не получается.
Полы пиджака ван Тисха развевались на ветру. Он поднял воротник, чтобы защитить от холода шею, и растирал руки. Потом внезапно указал пальцем на Кларину голову:
— Там внутри что-то шевелится, что-то крутится, прячется что-то, что хочет выйти наружу. Почему вы так серьезно к себе относитесь? Почему воспринимаете все это как воинскую повинность? Почему не сделаете какую-нибудь глупость? Хотите опорожнить мочевой пузырь?
— Нет, — ответила Клара.
— Все равно попробуйте. Описайтесь.
Она попробовала. Не вышло ни капли.
— Не могу, — сказала она.
— Видите. Вы говорите: «Не могу». Все в вас — «могу» или «не могу». «Я могу сделать то-то, не могу сделать того-то…» Забудьте на минутку о себе. Я хочу, чтоб вы поняли… Нет, не чтобы поняли… Хочу сказать вам, что вы не имеете никакого значения… Да ну, зачем говорить, если вы мне не верите. — Он сделал паузу, будто подбирая слова попроще, и медленно продолжил, помогая себе руками: — Вы — просто носитель того, что мне нужно для моей картины. Слушайте, говорю вам совершенно серьезно, я знаю, что вам трудно это принять, но представьте себя скорлупой: я вас хочу разбить, но не потому, что вас ненавижу, не потому, что презираю, не потому, что считаю вас особенной, а потому, что ищу то, что у вас внутри. Остатки я выброшу. Дайте мне это сделать.
Клара ничего не ответила.
— Скажите по крайней мере, что не хотите, чтобы я это делал, — спокойно предложил ей ван Тисх чуть ли не с просьбой в голосе. — Воспротивьтесь мне.
— Я хочу дать вам то, о чем вы просите, — пробормотала Клара, — но не могу.
— А, видите? «Не могу». Я расставил вам небольшую ловушку. Конечно, не можете. Но видите? Выделаете усилие. Вы не можете согласиться, что вы просто носитель. Как будто скорлупа может расколоться сама, без всякого давления. — Он поднял руку и мягко положил ее на голое плечо Клары. — Вы заледенели. Смотрите, как дрожите. Видите, что я прав? Вы прикладываете усилия. Усилия! Лучше всего все бросить.
Он на минуту отошел, а когда вернулся, принес халат.
— Одевайтесь.
— Нетпожалуйста.
— Ну же, одевайтесь.
— Пожалуйстанетпожалуйста.
Она чудесно знала, что ван Тисх воспользовался довольно грубым методом письма: мнимым сочувствием. Но его мазок был гениальным. Что-то в ней подалось. Она это чувствовала так же, как могла бы чувствовать приход смерти. Сама мысль о том, чтоб вернуться домой, вызывала у нее панику. Этот практически невыносимый вариант — снова надеть халат и закончить со всем одним росчерком — разбил внутри нее нечто очень твердое. Ее плечи задрожали. Она поняла, что плачет без слез.
Он с минуту смотрел на нее.
— Хорошее выражение, — отметил он, — довольно хорошее, но в ваших глазах я не вижу ничего особенного. Надо будет попробовать что-то другое.
Последовало молчание. Клара сжала веки. Ван Тисх внимательно смотрел на нее.
— Невероятно, — прошептал он. — У вас огромная воля, но сама себя подавить она не может. Она напрягает мышцы лица. Натягивает удила. Ну же, ну… Вы что, хотите стать шедевром? Разве ради этого вы согласились, чтоб вас писали? Хотите стать шедевром?… Какая большая ошибка. Смотрите… Даже сейчас, слушая меня, смотрите, как вы напрягаетесь… Ваша воля шепчет: «Я должна сопротивляться!»
Он поднял руку и дотронулся до ее груди. Он сделал это безразлично, будто трогал какой-то предмет, чтобы понять, зачем он нужен. Клара застонала. Грудь ее была холодной и чувствительной.
— Если я касаюсь вас, использую вас, вы превращаетесь в тело, видите? У вас меняется выражение, и мне нравится этот полуоткрытый рот, но это не совсем то, что я ищу… — Он отвел руку. — Много художников делали из вас разные картины, и все они были красивыми. Вы привлекательны. Участвовали в арт-шоках. Обожаете трудности. Будучи подростком, входили в группу «Зе Сёркл». В прошлом году отправились в Венецию, чтобы вас написал Брентано. Какой богатый опыт, — сыронизировал ван Тисх. — Вас превратили в архетип желания. Использовали вас, чтобы возбуждать карманы. Вы стремились быть картиной, а они превратили вас в тело. — Указательным пальцем он отвел волос с ее глаз. Клара чувствовала, что от него пахнет трубочным табаком. — Мне никогда не нравилось, когда полотно проходит через руки многих художников. Оно может подумать, что живопись — это оно. А полотно никогда, никогда не является живописью: оно только ее носитель.
— Я прекрасно знаю, кто я! — взорвалась Клара. — А теперь еще знаю, кто вы!
— Ложь. Вы не знаете, кто вы.
— Оставьте меня в покое!
Ван Тисх пристально смотрел на нее.
— Это выражение получше. Уязвленная гордость. Жалость к себе. Интересная дрожь губ. Если бы получить еще и блеск, было бы замечательно!..
Воцарилось долгое молчание. Ван Тисх наклонился над ней, опершись на ее левое плечо. Его пиджак касался голого Клариного тела, а давление руки на плечо вынуждало находиться в постоянном напряжении. Она заметила, что он смотрит на нее как на интересную живописную проблему, рисунок с трудной или слишком тонкой линией, которым он не вполне доволен. Она отвела взгляд от глаз ван Тисха. Прошла целая вечность, прежде чем снова послышался его голос.
— Как удивительно жалки люди. Кто сказал, что мы вообще можем быть произведениями искусства? У моих «Цветов» болит спина. Мои «Монстры» — преступники и калеки. А «Рембрандт» — как насмешка настоящих полотен настоящего художника. Расскажу вам историю из жизни. Гипердраматическое искусство выдумал Василий Танагорский. Однажды он пришел в одну галерею во время открытия выставки своих работ, влез на подиум и сказал: «Живопись — это я». Представляете, что за шутка. Но мы с Максом Калимой тогда были очень молоды и приняли ее всерьез. Раз мы пошли его проведать. У него было старческое слабоумие, и его положили в больницу. Из окна его палаты виднелся прекрасный английский закат. Танагорский рассматривал его, усевшись в кресло. Увидев меня, он указал на горизонт и сказал: «Бруно, как тебе моя последняя картина?» И мы с Калимой засмеялись, думая, что он шутит. Но это-то он говорил всерьез на самом деле. Природа в целом — гораздо более достойная восхищения картина, чем человек.
Говоря, ван Тисх провел пальцем по лицу Клары: лоб, нос, скулы. Его локоть все так же опирался на ее плечо.
— Какой ужас… Какой великий ужас — тот день, когда художник действительно будет знать, как сделать из человеческого существа настоящее произведение искусства. Знаете какой, я думаю, была бы эта картина? Она бы вызвала у всех отвращение. Я мечтаю о том, чтобы однажды сделать такую картину, за которую меня бы оскорбляли, презирали, проклинали… В этот день я впервые в жизни действительно создам искусство. — Он отодвинулся от нее и дал ей халат. — Я устал. Завтра буду писать вас дальше.
Он отвернулся и зашагал вперед. Казалось, что он замечательно ориентируется, несмотря на почти полную уже темноту. Клара пошла за ним, засунув руки в карманы халата, спотыкаясь и дрожа от холода и судорог из-за длительной неподвижности. На крыльце ждали Герардо и Уль. Свет с потолка одевал их в золотые капюшоны. Как будто ничего и не произошло. Клара даже подумала, что они стояли в тех же позах, в которых она их запомнила, когда видела в последний раз. Герардо держал руки на поясе. В припаркованном перед домом «мерседесе» притаилась молчаливая тень Мурники де Верн, секретаря Мэтра.