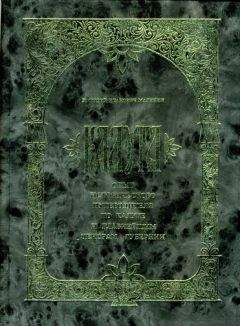И если философ прибегал и спрашивал: "Но ты-то, ты же мог спрятаться с ними в пещере?", то Веефомит отвечал, что тогда бы получился слишком длинный ряд имен и чисел, что, как и единение, способствовало бы идиотизму. Но философ давно и сам предполагал и даже высчитал - Веефомита нет, а есть тот, которого он породил, порождающий, в свою очередь, Веефомита, которого уже нет. К таким высказываниям философа трудно было прислушаться, тем более здесь явно чувствовалось влияние парадоксальной Зинаиды, что иногда мстила своими появлениями в кошмарных сновидениях и требовала заплатить за свою гибель романными разъяснениями о феномене Бенедиктыча. И Веефомит, повернувшись на бок, тяжело дыша водил рукой, чтобы успокоить любительницу истин раз и навсегда.
"Если бы я писал для людей прошлого, - начинал он примерно так, - то был бы вынужден доказывать, что растворение Бенедиктыча не есть бегство от действительности или от дружеского внимания властей; к прочему, мне очень много пришлось бы рассуждать о его социальной активности, о его любви к земному шару и документам, удостоверяющим личность. Хорошо, что теперь каждому ясно, что он исполнил свое желание и пребывает там, до чего дорос. Хочется, однако, отметить, что калужане стали много мечтать. И это правильно, ибо последние археологические открытия показали, что выживают не самые приспособившиеся, а самые возмечтавшие, и только вчера правительство официально заявило, что сознание, как и пространство, материя и время, вечно и едино.
Я думал, что в этом взгляде на природу людей - победа над надоевшей всем завистью. Перед моими глазами долго стоял титан, зачавший своими призрачными видениями это видоизменчивое многообразие. И даже сейчас, во сне, я не признаюсь - как мне удалось начать искать его среди живущих и, наконец, выйти на него. При расспросах об этом, я лишь улыбаюсь загадочно. И только повальное увлечение всеми видами искусств, как это происходит сейчас, - без отгнивших явлений конъюнктуры и наживы - может подсказать всем вопрошающим судьбы мира. И если я курю трубку, оставленную мне Бенедиктычем, сие не означает, что я претендую на его роль и его путь. Ибо у меня есть свой слушатель - москвичка, которая во времена бесконечного движения к справедливости крайне щепетильна в выборе вариантов пробуждения ото сна, по крайней мере, я точно знаю, что для начала ей бы не хотелось забыть о том, что приснилось, и, тем более, не попасть в число тех, кого жарят на сковородке, отчего, порой, эти бедняги в самый последний момент постигают смысл жизни. Вот по каким начальным запросам я и ориентируюсь. И ученикам Бенедиктыча советую набирать в грудь побольше мужества, переступить через меня, находить свое отражение и разумно мечтать, далеко не заходя за линию бреда, потому что в любом ином случае всякому строптивцу предстоит ещё долго быть моим подданным. А сам я, Зина, надеюсь, что мне все-таки удастся бросить курить трубку - таинственный символ Бенедиктыча!"
Веефомит вырывал исписанный листок и бросал его мучительнице Зинаиде, а сам поспешно, убегая от дальнейших расспросов, сообразив, что нужно просто проснуться, карабкался на поверхность, как ловец жемчуга, завидевший белую акулу, и, растратив последний кислород, выныривал посреди кровати, успев поджать ноги перед защелкнувшимися челюстями.
- Что, мой прохожий, - спрашивала его москвичка, - проснулся? Будешь вставать?
- Нет еще, нет! - кричал потрясенный Веефомит.
Он притягивал её голову, чтобы ткнуться носом в щеку и умереть, задохнувшись от её спасительного тепла.
* * *
Постарел Любомир, но все ещё играет в театре придворных шутов, смешит публику. Совсем дряхлым стал философ. Но у него чудесная серебристая борода. И он хладнокровно созерцает, так как накопил нечто такое, что струится из него куда-то. Он постоянно заходит к Копилиным, где его всегда накормят настоящим борщом, и он его ест, аккуратно размачивая хлебные сухарики и сверкая потеющей от наслаждения лысиной. И лишь в эти мгновения он думает только о себе, в то время как Копилин...
Впрочем, я не знаю, что представляет из себя Копилин, у меня не хватает для него слов. Потому что он дорог мне тем, что поет такие песни, которые на бумаге не накалякаешь. А ведь его жизнь - это почти моя жизнь, и для неё нужна отдельная история, ибо я всего лишь создатель, а не мемуарист или писатель. Когда мне не было тридцати двух с половиной лет, я все удивлялся - почему не могу сделать какой-нибудь творческой дряни, которая принесла бы мне большой успех освобожденного от всех финансовых ураганов усадила бы за стол с резными ножками. Я глубоко убежден, что всемирная слава мне бы не навредила, и потому возмущался - отчего же не удается воспроизвести на свет нечто поучительное и оригинальное, что воспроизводит в таких невероятных количествах других. Неужели их не захватывают эти бесконечные ассоциации и идеи, когда после первой ленивой страницы разбуженная мысль затягивает в свой водоворот, и нажитые суждения летят ко всем чертям, сознание лопается от перегрузок, и ты уже хватаешься за мимолетную связующую нить и потому в самый последний миг успеваешь не сойти с ума. И всходишь в неизведанный ум, заставляя осваивать его вездесущих критиков. Ибо надеешься, что назавтра новая ленивая страница бросит тебя в этот кошмарный и удивительный водоворот. Неужели у этих счастливчиков, лакающих пенки изобилия и достатка и вытирающих ноги о мою тошнотворную обыденность не было желания отдаться на волю мгновений, ради которых я подарил им жизнь? Ведь отвечал же мне Копилин, что "Неужели" - это нравственное слово и вам, Веефомит, употреблять его не к лицу. Вы же давно вызубрили назубок истину? Даже очень крупный мужчина не выдавит из себя океан - от него требуется одна лишь капля, и то не каждый день, и во взвешенном состоянии, ибо, в противном случае, он напечет блинов, которые из-за перепроизводства пережевываются с глубоким безразличием." "Да, соглашаюсь я с Алексеем, - это во мне заговорило сострадание к Строеву. И по моей вине помыкался, бедняга."
И если бы я сам дописал эту историю, то никакой патологоанатом не нашел бы в моем черепе серого вещества. Потому я вполне понимаю снимателей пенок и не имею ничего против, кроме: если они и выдавливают каплю, то пусть, как и прежде, существует технология полимсеста - рукописей на пергаменте поверх смытого или соскобленного текста.
А о Копилине и о себе Леночка сама может поведать, тем более что я всегда примечаю у них какие-то странные листы на письменном стола. У Елены Леонидовны это наследственное - от дяди Кузьмы.
Заходит иногда и Радж. Это личность среднего роста, он мало похож на отца, но имеет огромную популярность и давно не ударяется лицом о бетонные стены. Он беспрестанно разъезжает и возглавляет комиссию по поискам результатов новейшего творчества. Но земляки-калужане ценят его за другое: он отличный протезист-любитель, и нет такой старушонки в городе, которая не мечтала бы именно у него вставить ослепительную челюсть. К тому же он любит людей, и карлик часто застает его плачущим перед телевизором, когда передают желтую хронику неизвестных лет. Он по-прежнему не ревнует Нектония к Зинаиде в прошлом. И они ходят иногда вдвоем на её могилку. Там, за крошечной оградой - железная тумба и табличка с её богатой биографией. Но один я наверняка знаю, что под холмиком ничего нет, кроме земли, земли и земли. Так как в эти мгновения делает зрелые шаги Дочь Человеческая, несущая непорочное слово моим давно ожидающим героям. И Зинаида гуляет по головам, готовая дать последний парадоксальный бой, и не для того, чтобы проиграть, а чтобы высвечивать то, чему принадлежит будущее.
И мне не очень жаль философа, который вряд ли уже поймет, что вечно одно лишь смешное, а не тот мой чемодан с заплесневевшими вещами москвички, который я таскал с собой повсюду. Наверное, ко мне приходили женщины, и тогда я вспоминал о чемодане и видел её смятые платья, и слышал её запах, которого давным-давно не было. Я никогда не открывал этот чемодан и боялся его, как огня, как пытки, которой подвергалось мое сознание при тезисе о невозвратимости ушедшего. И все оказалось ложью, когда я и она раскрыли этот чемодан, а ткань давно сгнила и тогда москвичка упрекнула меня: нужно было все это проветривать. И вот эти слова были действительно смешны, потому что всякому бывает обидно: возвратясь после долгого отсутствия не найти привычных вещей на своем месте. Меня дурачили миллионы раз, и я уже не внимал красивым сообщениям, когда кричала вся Калуга, что объявилась оборванная и плачущая Ксения, стучащая палкой по заборам и окнам и заявляющая, что Бенедиктыч всех надул, а на самом деле ничего нет, не было и не будет, что он трюкач и заставил её сидеть в каком-то подземелье, чтобы утешить всех, но ничего нет, нет, кроме развлечений и поцелуев, мяса и электроники, что он сам когда-то обманулся, положил на ошибку жизнь и у него просто не было выбора. Ложь, скажу я, если даже оборванную Ксению поставят передо мной - когда бы сам мир растерся в порошок, я бы все равно не признался, что меня нету. И потому я оставляю диктаторам их модные трусы, ибо кроме этого смеха они мне ничего предложить не могут.