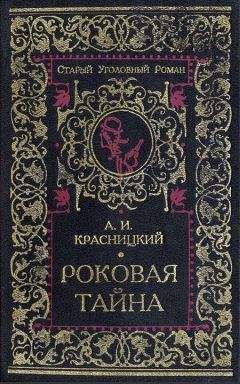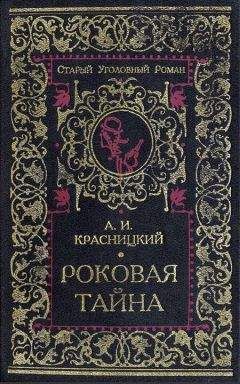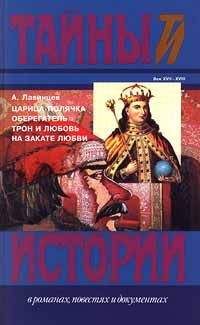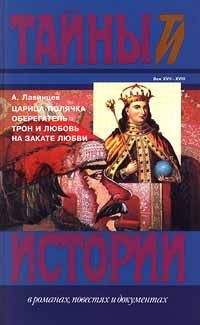– Вот он, – подвел его Барановский к поставленной в стороне койке.
На ней, вытянувшись во весь свой длинный рост, лежал Минька Гусар. Его отвратительно красное лицо было теперь бледно, почти бело, вследствие чего на нем еще резче выделялись потемневшие синяки и багровая царапина на щеке. Копна волос на голове и борода исчезли под ножницами больничного парикмахера. Глаза больного были полуоткрыты и между веками виднелись неестественно расширившиеся зрачки. Он тихо и надрывно стонал, вздрагивая всем телом.
– Без памяти? – спросил у Барановского Мефодий Кириллович. – Что у него?
– Пока не определилось… Кажется, hyperaemia miningei… Длительное беспамятство, бред… Завтра его посмотрит старший врач.
Больной заметался на койке, его губы зашевелились, с них стали срываться непонятные слова.
– Бредит, – пояснил Барановский.
Кобылкин склонился над несчастным и стал жадно вслушиваться.
– Бей, бббей Гусара! – услыхал он. – Графа нне троннь… Нет граафа… Не то убббью… Сттарик…
– Послушайте, вы обещали! – попробовал оттолкнуть Кобылкина врач.
– Сейчас, голубчик, сейчас, – умоляюще зашептал тот. – Ради Бога, позвольте еще…
– Жжжениться мине… – бредил Нейгоф, – мнне на этой кррас… це? Никогда! Пррочь, сттаррик, убббью!
Кобылкин выпрямился и, серьезно взглянув на Барановского, произнес:
– Спасибо. Больше не надо.
– Выведали-таки? – усмехнулся тот.
– Да, все, что мне нужно.
– Так и уходите, если вам здесь больше делать нечего!
– А вы не обидитесь, когда я вас покину? – прежним шутливым тоном спросил Кобылкин.
– Не беспокойтесь обо мне. Я побуду здесь, благо пришел. Видите! – указал Барановский на палату.
Появление врача в неурочный час переполошило больных. Десятки пар глаз умоляюще смотрели на Анфима Гавриловича. Кто был посмелее, шепотом звал его к себе. Сиделки, которых и в помине не было, когда пришли Барановский с Кобылкиным, все очутились на своих местах. Явилась даже сестра милосердия, с испугом поглядывавшая на сердитого доктора.
Кобылкин вышел из больницы, но на больничном дворе остановился.
– Не может быть, чтоб я ошибся, – заговорил он сам с собой. – Или я от старости чутье потерял? Ведь их было там, у Козодоева, трое – трое мужчин, и еще одна женщина. Тогда что же значит это: „Старик, убью!“? Не понимаю… Уж не был ли Нейгоф в числе этих троих? Да нет! Зачем ему убивать Козодоева? А все-таки он у него был, и теперь я знаю, что его Козодоев прочил в женихи этой Шульц… Его! Я не ошибся в том, что Козодоев затеял какую-то авантюру. Но этот Нейгоф! – Мефодий Кириллович снял шапку и по привычке почесал затылок. – А, все равно! – почти во весь голос произнес он. – Надо мной не каплет. Буду ждать и посмотрю, что дальше. Только больше никому ни гугу. А то я, старый пес, раньше времени болтать стал… Впрочем, ничего. Ведь кто был гостем у Козодоева, пока только я один знаю, да и то сейчас узнал. Прекрасно! Буду ждать! – и он поспешил с больничного двора.
Барановский, как только Кобылкин ушел из палаты, еще раз внимательно осмотрел Нейгофа и предупредил сестру милосердия:
– Будьте повнимательнее к этому больному.
– Конечно, – ответила та, – как же может быть иначе? Ведь он – титулованный.
– Он прежде всего – больной, и больной трудный, а до прочего нам дела нет. Возни с ним будет немало.
Барановский оказался прав. Болезнь графа до такой степени обострилась, что несколько дней Михаил Андреевич находился между жизнью и смертью. Наконец сознание понемногу стало возвращаться к нему.
– Сестра, скажите, – однажды спросил Нейгоф, – я давно болен?
– Порядочно, граф. Но вы лучше молчите…
– Нет, еще один вопрос… Я, как сквозь сон, помню чье-то женское лицо… видение, призрак… Раза два оно было предо мной… я видел его совсем близко. Скажите, что это было? Бред? Галлюцинация?
– Вас навещали, – ответила сестра. – Какая-то молодая дама… Она очень интересовалась вами…
– Но кто, кто? Сестра, скажите!
– Да право же, ваше сиятельство, не знаю… Вот послезавтра будет приемный день, может быть, эта особа явится; а я откуда могу знать, кто она? Она мне не сообщила своего имени. Лежите и не разговаривайте, вы еще очень слабы.
Нейгоф повиновался, но его мучила загадка:
„Кто эта женщина? Почему она интересуется мной?… У меня нет никого, совсем никого… А этот старик? – вспомнил он о Козодоеве. – Бедный! Я, кажется, ударил его“.
В томительном ожидании провел Нейгоф время, остававшееся до приемных часов в больнице.
Наконец этот день наступил. Граф волновался еще с утра, прислушивался к бою часов. Он даже занялся своей внешностью и попросил у сиделки зеркало.
Взглянув в него, Нейгоф не узнал себя – так он изменился. Его лицо было чисто: синяки и отеки исчезли, и царапина зажила; исчезла одутловатость.
„Пожалуй, никто теперь во мне не узнает Миньки Гусара с кобрановских огородов“, – с горечью подумал Нейгоф, улыбнулся и вздрогнул.
Часы в палате пробили два, и коридоры больницы наполнились шумом, говором. Это впустили посетителей.
„Придет эта незнакомка или не придет?“ – с тоскою думал Нейгоф.
– Ваше сиятельство, к вам! – крикнула ему через всю палату сиделка.
Нейгоф с волнением приподнялся на своей койке, напряженно глядя в сторону входа.
В дверях палаты стояла Софья Карловна.
Западня
Нейгоф откинулся на подушки и отвел взгляд, решив, что эта посетительница пришла не к нему. Однако Софья Карловна направлялась прямо к его койке.
– Слава Богу, граф! – заговорила она. – Я с радостью вижу, что вы поправляетесь!
Михаил Андреевич испуганно и в то же время восторженно смотрел на свою гостью.
– Вы удивлены моим посещением, граф? – улыбнулась она. – Или вы не узнаете меня?
– Узнаю, – прошептал Нейгоф, – у Козодоева…
– Да, да! Впрочем, та встреча была мимолетна… мой покойный отец даже не представил мне вас.
– Покойный! – воскликнул граф. – Разве этот Козодоев умер?
– Увы, да! Вы еще не знаете, какое несчастье постигло меня.
– Вы – дочь Козодоева?
– Да, приемная… Он воспитал меня, дал образование… Какой это был чудный человек, граф! Но не будем говорить о печальных вещах. Вернемся к прежнему. Итак, вы удивлены?…
– Очень! – откровенно сознался Нейгоф.
– И я была бы очень удивлена на вашем месте. Мы незнакомы, видели друг друга всего один раз мельком, и вдруг эти мои посещения… Но на все в нашей жизни есть причины. Простите за откровенность, граф, но тогда вы мне показались очень несчастным, удрученным всякими бедствиями человеком… Я пожалела вас, граф…
– Благодарю, – пробормотал Нейгоф, – я действительно очень несчастлив…
– Я стала думать о вас, граф, и чем больше думала, тем больше мне становилось вас жалко. А потом знаете, что случилось?
Голос Софьи Карловны звучал искренностью. Граф жадно слушал не слова, а именно эти звуки и напряженно смотрел в лучистые глаза красавицы, боясь, что она замолчит, и он не услышит больше этого чарующего голоса.
– Что же случилось? – тревожно спросил он.
– А то, что я вас возненавидела.
– Вы! Меня! За что? Я теряюсь в догадках. Пожалели сперва, потом возненавидели, а теперь…
– А теперь я, как видите, незваная, незнакомая, пришла к вам, когда вы стали еще более несчастны, когда вы умирали… Лежите, лежите спокойно! – остановила она Нейгофа, намеревавшегося подняться. – Иначе я уйду, и вы никогда не узнаете, за что я вас возненавидела…
– Нет, нет, не уходите! – запротестовал Нейгоф. – Даже ваше имя я только сейчас припомнил. Ваш отец назвал мне его… Я не думал, что вы – его дочь… Помните – он назвал вас царицей красоты и еще как-то… Как – не могу припомнить, но сохранилось впечатление, что так к близким людям не обращаются; вообще вы тогда не произвели на меня впечатления дочери Козодоева, а скорее его клиентки.
Глаза красавицы на мгновение погасли, губы дрогнули. Она как будто смутилась, но быстро овладела собой и сказала:
– Сейчас я объясню поведение покойного.
– Как странно слышать это: „покойного“! – перебил ее Нейгоф. – Мне кажется, я только вчера видел вашего отца.
– А для меня не странно, а ужасно звучит это слово. Ах, если бы вы знали, какой человек был Евгений Николаевич! Как он был добр ко мне!… Только это был человек не без странностей. Он все старался возвысить меня перед посторонними и ради этого всячески унижал себя, как будто не хотел, чтобы думали, что я – облагодетельствованная им, бедная, нет, не только бедная – нищая девочка, подобранная им на улице. Он все силы употреблял, чтобы я позабыла свое печальное детство. С вами он не говорил обо мне?
– Говорил, – покраснел Нейгоф.
– И я знаю, о чем он говорил. Он задумал поставить меня, бывшую босоножку, в ряды аристократии и для этого…
Софья Карловна не договорила и потупилась.