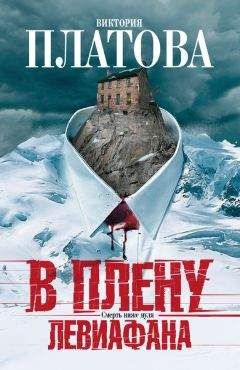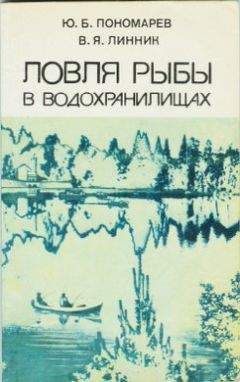— Кажется, ты был прав, Барбагелата, — бросил Нанни, желая только одного: покончить с неприятным разговором. — Праздная жизнь развращает. Ты совсем позабыл о субординации. Я пока еще твой командир.
— Это вы позабыли о субординации, лейтенант. Крепко сидите у него на крючке, так?
Упомянув подметного рыболова Селесту, фельдфебель попал в самую точку. Ткнул палкой в больное плечо Нанни.
— Я не собираюсь обсуждать это с тобой.
— Я бы тоже не хотел обсуждать это с вами. Но хотел бы обсудить это с тем парнем, что был со мной в Тунисе. С ним мы вместе ходили под пулями, хлебали из одного котелка и о многих вещах думали одинаково.
Вот во что метит Барбагелата: в их общее военное прошлое. С высоты этих гор оно кажется Нанни почти безупречным. И сам он был безупречен, а фельдфебель таким остался.
— О каких же вещах мы думали одинаково?
— О самых главных. Но теперь вы не на моей стороне, лейтенант. Мне жаль. Я не хотел доводить до крайности. Думал, вы опомнитесь и сами во всем разберетесь. Думал, что снова увижу своего командира таким, каким привык видеть. Справедливым, храбрым…
— Разве у тебя был хоть один повод заподозрить меня в трусости?
— Иногда храбрость нужна не только в столкновении с врагом. Тип, которому вы покровительствуете, — откровенный подонок. И пытается сделать таких же подонков из всех остальных.
— Наверное, тебе известно больше, чем мне…
— Достаточно просто раскрыть глаза, чтобы это увидеть. А вы не хотите, лейтенант. Или уже не можете этого сделать?
— Я выслушиваю весь этот вздор только из уважения к тебе. Но не стоит заходить слишком далеко.
— Именно это я и собираюсь сделать, лейтенант.
— Вот как?
— Если я не получу ответа от вас, придется обратиться к кому-нибудь… повыше званием, — в голосе Барбагелаты не слышалось никакой угрозы, только грусть.
— Хорошо, — вынужден был сдаться Нанни. — Я поговорю с полицейским. И с Селестой тоже.
— Надеюсь. Такому человеку не место среди альпийских стрелков.
— Я разберусь. Обещаю тебе.
Обещание Нанни — пустой звук. Он должен был встретиться с Тавиани, но до сих пор не сделал этого. Его разговоры с Селестой вертятся вокруг морфия, добывать его становится все труднее, очевидно, Нанни придется в очередной раз раскошелиться. Селеста проявляет удивительную осведомленность о жизни Нанни Марина: не той, походной, которую он ведет сейчас. Не армейской. Совсем другой — она связана с прошлым Нанни. С его семьей, умершими родителями, — они оставили лейтенанту целое состояние. Чертов Селеста откуда-то знает то, чего не знает никто, кроме фельдфебеля: Нанни Марин родом вовсе не из Италии, а из ее колонии на Африканском Роге — Итальянской Эритреи. Отец, занимавший высокие посты в колониальной администрации, прожил в Асмэре[26] едва ли не всю жизнь и лишь в самом конце ее, выйдя в отставку, засобирался на историческую родину. И хотя уже было куплено поместье неподалеку от приморской Каттолики, отъезд все откладывался — не в последнюю очередь из-за начала боевых действий в Африке. Хорошо еще, что он успел перевести капиталы в метрополию до того, как Эритрею заняли британцы. Отец умер от инфаркта в уже оккупированной Асмэре, следом за ним тихо скончалась и мать. Нанни, воюющий в Северной Африке, узнал об этом лишь спустя несколько месяцев. Как и то, что остался единственным представителем когда-то могущественного рода. Хорошо обеспеченным представителем, что нисколько не скрашивает горечь потери. Лишь Виктория вносит в его жизнь смысл; Селеста пронюхал и о ней и даже попытался выудить кое-какие подробности в полудружеской беседе. Беседа произошла еще до того, как Барбагелата посоветовал лейтенанту Марину держаться подальше от негодяя.
Нанни понимает это и сам, но все равно не может отойти от Селесты; он увязает в сугробах белого кристаллического порошка, которыми демон-Даниэль окружил себя. А его расспросы о Виктории сеют в душе Нанни смутную тревогу, хотя Селеста не позволяет себе никаких сальных замечаний, напротив, говорит о жене лейтенанта с подчеркнутым уважением. Не хотел бы его доблестный командир, чтобы Виктория перебралась поближе к нему? — Селеста в состоянии все это организовать. Предложение было заманчивым, и, исходи оно от кого-нибудь другого, Нанни, возможно, и принял бы его. Пусть и не без колебаний: в его стране идет война, половина территории занята противником, и свобода передвижения в таких условиях — непозволительная роскошь. Тем более что Виктория не одна, а с маленьким ребенком, подвергать их лишней опасности — безумие. С другой стороны… Тоска по жене и сыну делает Нанни слабым, беспокойство о них едва ли не лишает разума. Если бы ее окружала родня, близкие люди, способные защитить в минуту опасности, дать мудрый совет, уберечь от неправильного шага!.. Но Виктория — такое же перекати-поле, как и он сам. И Италия для нее — такая же чужая, как и для него. Но он — мужчина, а она — женщина, одинокая маленькая женщина на большой войне. Нанни знает ее с детства, она — дочь старого друга его отца, крупного инженера-строителя, погибшего в автокатастрофе незадолго до войны. Тогда она была совсем юной, только-только начинавшей расцветать девушкой. Семья Нанни взяла ее под свое крыло, а его детская привязанность самым удивительным образом обернулась любовью, в которой счастливо соединились нежность и страсть. Чувство это, к щенячьему восторгу Нанни, оказалось взаимным, что тоже было чудом. Нанни — ничем не примечательный молодой человек, а Виктория — самая настоящая красавица, по которой вздыхала добрая половина молодых людей Асмэры. Они поженились еще до войны, они строили грандиозные и легко выполнимые планы: увидеть, наконец, Италию, увидеть Европу и, конечно же, Париж. А еще Виктория мечтает о большом круизном пароходе. Конечно, неплохо бы отправиться на нем в Америку, но ведь с Америкой у нас сейчас не очень хорошие отношения, милый? Она слабо разбирается в текущем международном положении, да и Нанни в нем не особенный дока. Его обыкновенность и даже приземленность распространяется не только на внешний вид. Нанни ни в чем особенно не преуспел, он не захотел получить фундаментальное образование в метрополии, ему и в Эритрее жилось неплохо. К тому же уехать из Асмэры означало бы расстаться на неопределенное время с Викторией. Нет, он не сидел, сложа руки и бездумно прожигая отцовское состояние: пару лет Нанни проработал клерком в дорожно-строительной компании, он умеет вести деловую переписку, немного разбирается в проектировании и составлении смет и… Это, пожалуй, все. Отец был не слишком доволен карьерой сына, но не терял надежды, что тот образумится, выберет для себя что-нибудь более серьезное. Юриспруденцию, к примеру. Или дипломатию, у отца Нанни неплохие связи в Ministero degli Affari Esteri[27]. Но Нанни не привлекает ни юриспруденция, ни дипломатия, он лишен амбиций, все, что он хочет, — быть счастливым. Играть в теннис по субботам, выходить в море на маленькой яхте… он мог бы стать моряком, вот что! Нанни — крепкий, сильный и выносливый, из него получился бы неплохой морской офицер. Единственное «но» — морские офицеры подолгу отсутствуют на берегу. Их жизнь состоит из походов, а вовсе не из любви. Стань он морским офицером — и длительных разлук с Викторией не избежишь.
Впрочем, разлуки не удалось избежать и так.
Он не пошел на войну добровольцем, его призвали.
Особого протеста у Нанни это не вызвало: в конце концов, он мужчина, человек долга; и долг предписывает ему не уклоняться от призыва. Так же думал и его отец, но все же кое-какими связями сумел воспользоваться и здесь: Нанни отправился на войну не рядовым, а офицером — после окончания ускоренных курсов. Уже в действующей армии он узнал, что стал отцом, а потом — что сам потерял отца. Виктория с малышом тоже покинула Асмэру. Ей удалось перебраться в Италию, поближе к Нанни, и снять небольшую квартирку в Каттолике, рядом с той самой местностью, где отец Нанни купил поместье. Она могла бы поселиться и там, в большом пустующем доме, если бы не опасалась за свою судьбу и судьбу сына. Она — маленькая женщина на большой войне, не стоит об этом забывать. Нанни и Виктория виделись лишь однажды, когда он получил краткосрочный отпуск после ранения. На руках у лейтенанта уже имелось новое назначение, а в запасе было несколько дней: горьких и счастливых одновременно. Впервые увидев сына, Нанни испытал такое потрясение, что дал себе слово остаться в живых чего бы это ему ни стоило.
Если бы не Селеста…
Почему Селеста так обеспокоен судьбой его семьи? Не из хорошего же отношения к своему командиру! Фельдфебель назвал Селесту подонком, а уж он-то разбирается в людях: Даниэль — парень даже не с двойным, а с тройным дном. И дно это усеяно всякой пакостью — подобная пакость найдется в любом подвале затопленного дома, когда схлынет вода: мусор, битое стекло, черепки, ржавые детали каких-то механизмов, кукольные головы. Кукольные головы особенно занимают Нанни, он представляет их во всех подробностях: жесткие волосы свалялись и превратились в неприятную, полуразложившуюся субстанцию, глаза выскочили из орбит и затерялись в грязи и иле, — это если кукольная голова сделана из фарфора. Тряпичным и деревянным куклам повезло еще меньше, черты их лиц стерты — частично или полностью; Нанни еще не решил, к какому кукольному подвиду отнести демона-Даниэля. Хрупкий фарфор точно не подойдет.