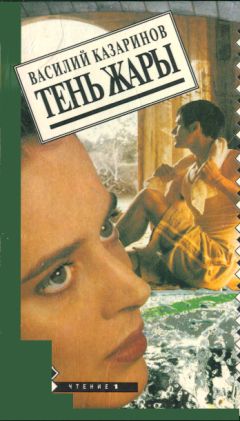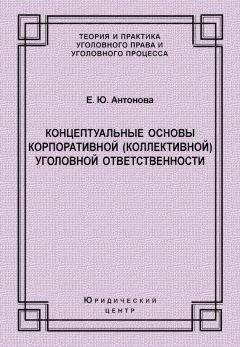С минуту мы молча смотрели друг на друга; мне показалось, что слегка шевелятся ее два поднятые вверх пальца.
– Что ж ты, матушка, людей-то в заблуждение вводишь? — сказала я женщине, подняла осколок серого бордюрного камня, валявшегося возле урны, и запустила им — прямо в ее очень торжественное и очень красивое лицо.
С утра пришлось нанести визит в родную библиотеку. Бюллетень, выданный мне милейшим участковым павианом, закончился несколько дней назад.
Вместилище профсоюзной мудрости всех времен и народов было охвачено паникой: кто-то высадил булыжником витрину.
– Дикие люди, — заметила я, рассматривая груду стекла с обрывками голубой листовки; мысль о том, что предстоит принимать участие в уборке, меня совсем не грела; я сдала бюллетень и откланялась.
Мои добрые друзья ожили только на третий день. Панин выглядел на удивление неплохо, зато Музыка маялся и нервно слонялся по коридору. Панин спросил, нет ли у меня с собой денег: издательский аванс они весь просадили, а потом еще эти поминки.
– Брат Музыка помирает, — объяснил свою просьбу Панин, — ухи просит.
Я пошарила по карманам куртки, вывалила на стол мелкие ассигнации… Похоже, это все мои запасы. Придется опять ехать и спекулировать газетами. Хотя неизвестно, ходят ли электрички и выходят ли газеты.
Сунула руку в карман джинсов.
В заднем нашлось немного денег — я метнула их в общую кучу. Панин сортировал бумажки, раскладывая их по кучкам.
– Это что, твое? — спросил он, разворачивая блокнотный листок.
А-а-а, это… Это, сколько я помню, результат Варвариного хождения к добрым самаритянам: список контор, спонсирующих милосердие.
Панин неожиданно напрягся. Насупившись, он внимательно рассматривал листок, а потом погрузился в глубокую задумчивость — такое с похмелья бывает, подумала я.
Однако, чтоб человек так резко вскакивал с места и опрокидывал стул — такого с похмелья не бывает.
Я с интересом наблюдала, как он, вытащив из пазов ящики письменного стола, вываливает в "ложе прессы" их содержимое и что-то ищет.
Нашел.
Плотный квадратик картона, — визитка, наверное.
Визитку он отложил в сторону, распластал на какой-то книге блокнотный листок, отчеркнул строку ногтем и протянул мне Варварины записки вместе с визиткой.
– Ну и что? — спросила я.
Название фирмы в визитке совпадало с тем, что было отчеркнуто ногтем.
– Это контора твоего благоверного.
Интересно, что бы эти совпадения могли означать?
Панин перекрестил комнату задумчивым променадом, потом долго стоял у окна и глядел во двор.
– Одно я знаю наверняка, — тихо произнес он наконец. — Твой муж не занимается благотворительностью… Ты знаешь, чем он занимается?
Я поморщилась: не знаю и знать не хочу этого человека, который имеет обыкновение в решительные минуты поджимать губу и молча сообщать мне: поступай как знаешь, однако — без меня.
Дальнейшие действия Панина — молчаливые и уверенные — я понимать отказывалась: все эти его копошения в платяном шкафу, повизгивания в ванной (он освежался под ледяным душем), возвращение в комнату, верчение перед зеркалом (а хорош… отмылся, побрился, причесался, оделся во все лучшее) и убегание в коридор, откуда доносится жужжание телефонного диска.
– Лену, пожалуйста… Что, нет? Извините.
– Добрый день, будьте любезны Лену… Извините.
– Лену… А, любовь моя! Что пропал? Никуда я не пропадал. Был на Камчатке, да, с геологами, в партии… Да нет же, не в коммунистической, а в изыскательской. Ну как я тебе могу позвонить оттуда, сама подумай, там тайга кругом. А почему дома? Про-сты-ы-ы-ла? Значит, некому поднести стакан воды? А родители? В отпуске? Ну, так я сейчас буду. Да, со стаканом, ждите доктора в течение получаса. Все. Целую.
Вернувшись в комнату, Панин принялся считать деньги. Я внимательно следила за подсчетами и в нужный момент прервала их:
– Стоп! На бабоукладчик тебе уже хватает! Остальное пойдет на уху… Сам же говорил: брат Музыка помирает.
Панин, кажется, находился в легком замешательстве. Он мялся у двери и подкашливал в кулак.
– Возможно, тебе это будет неприятно… — свое роковое признание он предварил глубоким вздохом, — однако, как честный человек, я должен сделать следующее заявление… Я еду предаваться любовным утехам.
Я расхохоталась, поманила его пальцем; Панин подошел, присел со мной рядом на краешек "ложа прессы"; я погладила его по голове:
– Старый ты стал, дедушка Панин, а туда же…
В самом деле, милый друг детства, в последнее время ты если и приглашал меня занять это, слишком хорошо мне знакомое место в "ложе", то почему-то проделывал это несколько вяло и даже застенчиво, не то что прежде… Черт его знает, любила ли я тебя, наверное, все-таки нет. Равно, как и ты меня… Теперь я понимаю: не стягивал с тобой инстинкт. Какой инстинкт? Ну, конечно же, самосохранения — вдвоем легче перетерпеть усталость. Странная у нас у всех усталость, да? Она не имеет видимых причин, но это именно та усталость, от которой иногда — и совершенно неожиданно — рассыпаются прямо в воздухе на мелкие куски самолеты, сделанные из сверхпрочных материалов; говорят, этот эффект внезапного рассыпания специалисты называют "усталость металла" — ну, а мы-то и вовсе не железные, износ есть износ, мне сейчас легче — у меня влюбленность в охотника, а тебе наверняка труднее, так что иди со спокойной душой к своей Лене…
– А кто она такая, эта твоя Лена?
Ну-ну, оказывается, это секретарша моего бывшего мужа.
– Будь с ней поосторожней! — наказала я Панину, провожая его до двери. — Как бы тебя током не шибануло.
Информировать Панина о своей идиотской шутке с телефонным проводом я не стала, тем более что я не уверена, есть ли вообще у этих "хай-блэк-тринитрон" провода.
По всем признакам судя, друг детства отправился в дальнее "автономное плаванье"; пропадал он в объятиях Лены с прохладным голосом (если у нее все остальное настолько же прохладно, то я Панину не завидую) достаточно.
Ни к вечеру, ни на следующий день он не вернулся.
Я вспомнила про милиционера с красными воспаленными глазами.
Зайдя в отделение, собиралась было направиться в знакомый мне кабинет, однако что-то заставило меня остановиться на пороге и обернуться.
Не что-то, а кто-то.
Сбоку от сдавленного какими-то приборами и аппаратами милиционера, в узком загончике, огражденном высокими деревянными перилами, кто-то сидел.
С трудом, но все-таки я ее узнала.
– Рая! — позвала я.
Она никак не отреагировала.
– Рая! — крикнула я в полный голое. — Ты что здесь?
Милиционер нетерпеливым кистевым движением — проходите, проходите, гражданка! — отослал меня из коридора.
Новостей в знакомом кабинете, кажется, не было.
– Ищем, — неопределенно заметил страж порядка. — Хотя в такой ситуации, сами понимаете…
Понимаю: наворочали горы трупов на улицах — "в такой ситуации" не до хромого старика, пропавшего без вести, понимаю.
– А что это у вас в кутузке наш дворник сидит? Или как этот загончик с перилами называется?
– Эта женщина? — он помассировал усталые глаза. — Беда с ней. Добиться от нее чего-нибудь… С ума сойдешь. Ослепила человека. И будто в рот воды набрала.
Я пыталась сообразить, что бы это значило. Ослепила? Как это? Какого человека? За что? Она же добродушнейший человек!
– И совсем ничего не объясняет? — спросила я, присаживаясь на стул.
– Почти ничего, — интонационно он нагрузил это "почти".
"Почти" состояло вот в чем. К ней днем позвонили в дверь, она открыла. На пороге стоял какой-то молодой человек. "Тебя же предупреждали, дура старая, а теперь все, сейчас я с тобой разберусь" — вот и все, что он успел сообщить. Рая в тот момент мыла окна какой-то страшно едкой, кислотной жидкостью, в руке у нее была плошка с этой отравой. Без долгих разговоров она плеснула жидкость в лицо визитеру. Он сейчас в больнице, врачи говорят — безнадежно, видеть он уже не сможет. А у Раи могут быть неприятности.
– Но это же те подонки! — выкрикнула я.
Я рассказала, что знаю про Пряничный домик, про звонки, которыми Рае последние полгода надоедали.
Милиционер, подавшись вперед, внимательно слушал, время от времени делая пометки на листе бумаги.
– Вот, значит, как… — раздумчиво протянул он.
– Это вы к чему?
— Да, так…
Да так, неделю назад изнасиловали ее дочку.
– Гулю?!
Вот именно: Гулю, ее нашли утром неподалеку от железнодорожных путей, на откосе; она едва подавала признаки жизни. Сколько их было, трудно сказать, но, видимо, много. После всего ей запихнули электрическую лампочку…