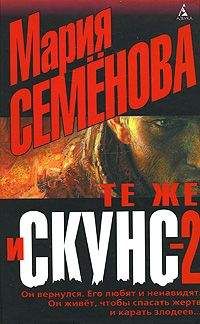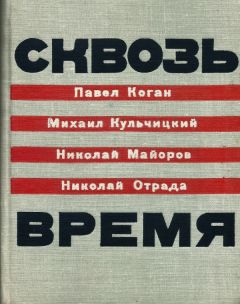– Алё!.. – снова заорал Базылев. – Ты куда делся?..
– Я не делся, – чужим голосом выговорил Гнедин. Он лихорадочно пытался сообразить, что ТАКОГО могла Даша успеть рассказать про него Плещееву. Ничего конкретно-опасного в голову не приходило, лишь нарастало ощущение неудержимого падения в бездну.
– Ты, кореш, не очень расстраивайся, – достучался до сознания дружелюбный голос Виталика. – Ну их, баб. Ты подумай, зато теперь какие возможности!..
Ему хорошо было руководствоваться здравой, не запудренной эмоциями логикой, повелевающей всячески лелеять и холить обнаруженного «стукача». Ибо с мёртвого осведомителя, как всем известно, проку немного.
Тогда как с живого…
Гнедин отлично эту логику понимал. И возможности, о которых говорил Базылев, представлял в полном объёме. Только вот от мысли о том, чтобы ими воспользоваться, его чуть не вывернуло на пёстрый пластиковый ковёр.
– Нет!.. – зашипел он в телефонную трубку. – Ты, Виталя, был прав, признаю!.. Делиться надо, делиться!..
– Чего?.. – настал черёд Базылева с удивлением посмотреть на коробочку сотового телефона.
– Делиться, говорю, – повторил Владимир Игнатьевич и взялся за узел галстука, неожиданно туго стянувшего шею. – А то нехорошо получается. Не по понятиям. Так вот… Забирай на уик-энд…
– Ну, Вовец!.. – захохотал одноклассник. – Да ты чё, серьёзно никак?
– А потом… там где-нибудь и оставишь.
– Вот так, значит?
– Да.
– Ну, братан, ты даёшь, – сказал Базылев, но его уже некому было слушать: Владимир Игнатьевич положил трубку. Пулковский лидер закрыл крышечку «Эрикссона» и повернулся к ждущему приказаний водителю. – Чё смотришь? Поехали…
Плещеев и Даша вернулись ко входу в метро, и он категорически повёз её домой на машине. Даша, впрочем, не особенно и отказывалась. У неё просто не было сил.
От канала Грибоедова до Колокольной езды пять минут, и как ни медлил, как ни растягивал их Плещеев, эти минуты очень скоро закончились. Даша так и просидела рядом с ним молча, глядя куда-то в пространство сквозь лобовое стекло. И лишь когда он уже свернул на ухабистую Колокольную и по правому борту проплыла неоновая вывеска кафе «Эльф» – тонконогий мальчик с крылышками и арфой, – Даша неожиданно попросила:
– Останови, пожалуйста…
Сергей послушно остановился, чувствуя, как сжимается и болит слева в груди. Он знал, почему она захотела проститься с ним именно здесь. Здесь он подошёл к ней и попробовал познакомиться. Пригласил в «Эльф» на чашечку кофе. А потом, когда она не позволила себя подвезти, – вовремя оглянулся и успел защитить её от какого-то пьяного питекантропа…
– Может быть… – начал он нерешительно, покосившись на вывеску.
– Нет, – ответила Даша. – Не надо. Открыла дверцу и стала неловко выбираться наружу, стараясь не уронить шуршащие, наверняка подмёрзшие розы. Сергей Петрович выдернул из замка ключ и выскочил следом:
– Я тебя провожу.
Даша медленно покачала головой.
– Ты езжай, – совсем тихо проговорила она. – Я вслед посмотрю…
Плещеев молча сел в машину и завёл двигатель, плохо различая вспыхнувшие мягким светом приборы. Включил передачу и развернулся, не удосужившись оглядеться насчёт трамвая и встречных. Встречных, правда, и не было, только вдалеке, по Марата, не спеша прополз к Невскому большой тёмный джип…
И Плещеев поехал, как на тот свет, на безжалостно загоревшийся зелёный.
Некоторое время он видел Дашу в зеркальце. Потом она опустила голову и медленно растворилась в темноте подворотни…
Как он дорулил оттуда до Троицкого моста, Плещеев впоследствии не мог бы вспомнить даже под страхом немедленного расстрела. Но на мосту, собираясь сворачивать на Петровскую набережную, он не выдержал и посмотрел на пустое правое сиденье, только что обнимавшее Дашу.
И увидел перчатку, свисавшую с матерчатого края. Тонкую кожаную перчатку.
Первым поползновением Сергея Петровича было немедленно лечь на обратный курс, чтобы вскоре, шалея от минутного счастья, позвонить в заветную дверь: «Дашенька, ты перчатку забыла!..»
Он не сделал этого, потому что сделать это бы нельзя. Он остановил машину и некоторое время держа перчатку в руках, осязая ускользающее тепло. А потом завернул её в тряпочку и спрятал в багажник, в брезентовый кошель с инструментами. Как ни больно ему было сейчас, он знал, что не будет вытаскивать её и тайком созерцать. Просто помнить, что она здесь… Этого ему будет довольно.
Плещеев вернулся за руль и поехал дальше, чувствуя странное, просветлённое умиротворение. Наверное так чувствуют себя женщины, когда, вволю наплакавшись утирают глаза и пытаются улыбнуться.
Если бы он всё-таки поддался первому душевному движению и возвратился на Колокольную, он увидел бы в грязноватом сугробе растоптанный и смятый букет, который наверняка показался бы ему очень знакомым. После чего, побуждаемый профессиональным чутьём. он наверняка начал бы внимательно озираться вокруг… и очень скоро заметил бы на снегу следы неравной борьбы. Быстро завершившейся победой превосходящей физической силы… И понял бы, что поверженный питекантроп так или иначе вернулся. И восторжествовал.
Но на сей раз Плещеев уехал не оглянувшись.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Невозвращенец
Если вор в законе Француз был внешне похож на мудрого академика Лихачёва, то Фарах ан-Наджара здорово смахивал на Филиппа Киркорова. По крайней мере вписывался в тот же физический тип: крупный, холёно-гладкий, по-восточному волоокий, с нежным овалом лица и, естественно, при двухсантиметровых ресницах и роскошной вороной шевелюре. Эта самая шевелюра густыми волнистыми прядями спускалась аж до лопаток и была для Фараха предметом неустанной гордости и ухода.
В настоящий момент чёрные локоны перемешались и переплелись на подушках с подкрашенными золотыми: любимец русских девушек Фарах ан-Наджара почивал в своей спальне, прижав к широкой смуглой груди очередную возлюбленную. Жил он не то чтобы в умопомрачительной роскоши; четырёхкомнатная в «сталинском» доме окнами сугубо во двор была по стандартам теневых бизнесменов скорее уж аскетическим минимумом. Увы, даже и на территории этого «минимума» Фарах последнее время был вынужден здорово потесниться. Охрана, выделенная Журбой, оттяпала у него сущие Голанские высоты в лице двух больших комнат. Оно и понятно – нужно ребятам где-нибудь отдохнуть, в картишки раскинуть… Опять-таки тихвинцы были вежливым и культурным народом, совсем не то что люди человека, которому Фарах платил за свою безопасность раньше. То есть можно и потерпеть, тем более, обосновались они здесь не навсегда.
Его нынешнюю подругу шаги и голоса за дверью спальни не только не смущали, но, наоборот, настраивали на творческий лад. Весь вечер и половину ночи они с ней исследовали окрестности рая и теперь наслаждались заслуженным отдыхом. А смех и разговоры в соседней комнате, смутно улавливаемые сквозь сон, лишь свидетельствовали, что рай находился под надёжной защитой.
Человек, возникший на карнизе за окном в три сорок ночи, не произвёл, в отличие от тихвинцев, ни малейшего звука. Он вырос там медленно-медленно, по миллиметру кристаллизуясь из теней и неровностей внешней стены. Потом в идеально гладких импортных стёклах возникло крохотное отверстие, и ручка окна повернулась, не щёлкнув. Медлительная тень проявила неожиданную расторопность и втекла внутрь очень быстро, обогнав волну холодного воздуха, хлынувшего в щель. Окно сразу же снова закрылось, а тень прислушалась, мгновение выждала – и мягко скользнула между шторами, почти не потревожив тяжёлых бархатных складок.
Полы в опочивальне Фараха были застелены толстым пушистым ковром, подобранным точно по размеру комнаты. Сплошное удобство! Незваный гость преспокойно проследовал к лежбищу, запустил руку под балдахин… И лёгкое нажатие пальцев превратило сладкий сон Фараха, а заодно и подруги, в глубочайшее забытьё.
Спустя время красавца мужчину весьма невежливо растолкали. Невыспавшийся и возмущённый Фарах мотнул головой, хотел о чём-то спросить… Мгновением позже до него дошло – если так не вовремя будят, должно быть, что-то случилось!.. Что-то серьёзное!.. Закономерный испуг разогнал сон, Фарах с трудом начал разлеплять веки, удивляясь, каким это образом челюсти заклинило посередине зевка – ни раскрыть, ни закрыть, – и, главное, почему никак не удаётся поднести руки к лицу…
Его снова бесцеремонно встряхнули, потом очень больно дёрнули за уши, и вот тут он осознал, что уже не лежит, а сидит, и не может протереть руками глаза просто потому, что руки привязаны.
Фарах проснулся окончательно и, судорожно дёрнувшись всем телом, захлопал ресницами. Больше он для своего спасения ничего сделать не мог, ибо в других движениях ему было отказано. Он сидел нагишом в глубоком мягком кресле, примотанный за все четыре конечности и за талию, а челюсти распирал кляп, не дававший возможности какое там закричать – даже замычать сколько-нибудь громко. При этом он отчётливо слышал, как по ту сторону двери обсуждали карточную ситуацию тихвинские братки. Защитники, не сумевшие его защитить… Фарах пребывал в полной власти неведомого злодея, а охрана, находившаяся буквально в двух шагах, и не подозревала об этом. Несчастный коммерсант полностью проникся трагизмом сложившейся ситуации и завертел головой, силясь рассмотреть злоумышленника. В том, что его прислал прежний покровитель Фараха, не возникало никакого сомнения, а значит, тысячу раз правы оказались те, кто отговаривал его от контактов с Журбой!.. Было очень похоже, что запоздалое раскаяние не только не принесёт никакой пользы, но даже и самой возможности принести покаяние Фараху уже не дадут. Никого больше не интересовали ни его уверения в вечной любви, ни даже денежные обещания, которые он мог бы дать… В комнате было темно из-за сдвинутых штор, но мрак всё же оставался далёк от кромешного. Серое подобие света позволяло различать движущийся человеческий силуэт. Фарах загипнотизированно прилип к нему взглядом и более не отводил глаз.