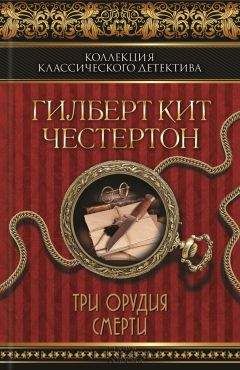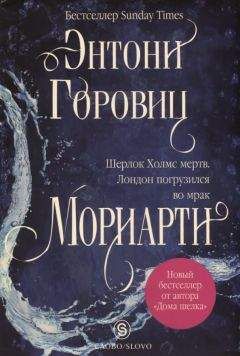Имя Нэдуэй было в каком-то смысле знаменитым и даже в некотором роде вдохновляющим и возвышенным. Его, как милость или дар, носил перед собой Альфред Великий, блуждая по лесам и мечтая об освобождении Уэссекса. Во всяком случае, к такому выводу приходил человек, разглядывающий рекламный плакат, на котором в кричаще ярких красках было изображено, как упомянутый персонаж возмещает нанесенный ущерб, предлагая взамен сгоревших лепешек лучшее в мире печенье Нэдуэй.
Сам Шекспир услышал это имя словно трубный глас. Разумеется, если верить удивительной картине с подписью «Анна Хатауэй[39] знала толк в Нэдуэй», на которой поэт с сияющим видом лицезрел столь бесподобное угощение. Нельсон в разгар битвы увидел это имя, начертанное на небесах. Во всяком случае, так утверждали хорошо знакомые нам огромные рекламные щиты с изображением Трафальгарской битвы, размещенные на всех улицах и столь метко дополненные благородными строками Кемпбелла: «О Нельсоне и Нэдуэе славу пою великому дню»[40].
Не менее знаменит и более современен патриотический плакат, изображающий британского матроса, который строчит из пулемета, беспрерывно поливая публику ливнем печенья Нэдуэй. Плакат довольно несправедливо преувеличивает смертоносность упомянутого лакомства. Люди, которым посчастливилось поднести к губам кусочек этой сладости, наверняка остались в недоумении, пытаясь понять, что же так отличает ее от других, менее прославленных печений. Но еще никто из тех, в чей желудок путем простого употребления в пищу опустилось это печенье, не ощутил его фатального воздействия, подобного попаданию пули.
В целом, очень многие подозревали, что главное различие между изделиями Нэдуэя и всем остальным печеньем заключается в вездесущности этой изумительной картинной галереи рекламных щитов, окруживших Нэдуэя вычурной пышностью и блистательным шествием исторических персонажей.
В самом центре всего этого геральдического великолепия и рева труб находился лишь маленький неприметный человечек с седой козлиной бородкой. Он носил очки, никогда не улыбался и никуда не ходил, кроме как по делам, да еще в баптистскую молельню, выстроенную из коричневого кирпича.
Это и был мистер Джейкоб Нэдуэй, позднее превратившийся, разумеется, в сэра Джейкоба Нэдуэя, а со временем – и в лорда Нормандейла, основателя фирмы и источника потоков печенья. Он по-прежнему жил очень просто, но мог позволить себе любую роскошь. К примеру, такую, как благородную Миллисент Милтон, в качестве личного секретаря.
Она была дочерью обедневшего аристократического рода, с представителями которого он состоял в приятельских отношениях, поскольку жили они по соседству.
Мало-помалу относительная важность Нэдуэя и Милтонов поменялась местами, что вполне естественно. Мистер Нэдуэй мог позволить себе такую роскошь, как положение патрона благородной Миллисент. Благородная Миллисент не могла позволить себе такую роскошь, как отказ от положения секретаря мистера Нэдуэя.
Тем не менее иногда она мечтала об этом в своих розовых снах. Не то чтобы старина Нэдуэй плохо с ней обращался или мало ей платил либо допускал в обращении с ней хоть малейшую грубость. Для этого наш благочестивый радикал был слишком умен. Он отлично отдавал себе отчет в существовании определенной договоренности и равновесия между разбогатевшими плебеями и обедневшими аристократами.
Миллисент была неплохо знакома с семейством Нэдуэев, сблизившись с ними задолго до того, как ей предоставили там официальную работу. Поэтому с ней не могли обращаться иначе, чем как с другом семьи, хотя Нэдуэи не относились к тем семьям, среди которых она стала бы искать себе друзей. И все-таки Миллисент встретила здесь друзей, а в какой-то момент у нее возникла возможность найти не просто друзей, а друга. Быть может, и не просто друга.
У Нэдуэя было двое сыновей, один из которых закончил школу, а другой – колледж, где из них общепризнанным современным способом ненавязчиво воспитали джентльменов. Впрочем, подход к формированию их характеров был различным, хотя за обоими процессами Миллисент наблюдала с немалой заинтересованностью. Возможно, было что-то символичное в том, что старшего сына звали Джон Нэдуэй, поскольку родился он в то время, когда его отец питал пристрастие к простым или предпочтительно библейским именам. Младший был Норманом Нэдуэем, и это имя указывало на появившуюся у отца тягу к элегантности и, возможно, предчувствие титула Нормандейл.
В старые добрые времена, когда Джона называли Джеком, он был самым обычным мальчишкой, игравшим в крикет и лазавшим по деревьям с непринужденной ловкостью молодого зверька, невинно играющего на солнце. Он был не лишен привлекательности, и Миллисент влекло к нему. И все же всякий раз, когда он приезжал на каникулы, а позднее – чтобы отдохнуть от дел, она чувствовала, как что-то в нем увядает, а что-то крепнет. Он претерпевал ту загадочную трансформацию, в ходе которой многие лучезарные и богоподобные мальчики постепенно превращаются в дельцов. Миллисент не могла не ощущать: с образованием или, возможно, с жизнью что-то не так. Ей казалось, будто по мере взросления Джон становится все меньше.
Что касается Нормана Нэдуэя, то он наоборот стал интересным приблизительно тогда, когда Джон Нэдуэй потускнел. Он расцвел поздно, если сравнение с цветком применимо к человеку, который все свои детские годы напоминал скорее жухлую репу. У него была крупная голова с большими ушами и бесцветное, невыразительное лицо. Одно время его даже считали кем-то вроде дурачка. Но, поступив в школу, Норман усердно занялся математикой, а став студентом Кембриджа, налег на экономику. Затем отчаянным прыжком перемахнул к изучению политики и социальных реформ, что и явилось причиной семейного скандала.
Норман начал с того, что потряс основание молельни из коричневого кирпича, объявив о намерении стать викарием англиканской церкви, более того, ее близкого к католицизму направления, именуемого «высокой церковью».
Но даже это не обеспокоило отца так сильно, как достигшая его ушей информация о чрезвычайно успешных лекциях сына, касающихся политэкономии. Эта политэкономия радикальным образом противостояла той, которую проповедовал и практиковал его отец. Она отличалась от принятой отцом настолько сильно, что тот во время достопамятного скандала за завтраком охарактеризовал ее как социализм.
– Кто-то должен отправиться в Кембридж и остановить его! – воскликнул старший мистер Нэдуэй, ерзая на стуле и нервно барабаня пальцами по столу. – Джон, ты должен съездить и поговорить с ним. Или же доставь его сюда, и я сам с ним побеседую. В противном случае нашему бизнесу конец.
Судя по всему, в реализации нуждались обе части этой альтернативной программы.
Джон, младший партнер фирмы «Нэдуэй и сын», съездил в Кембридж и поговорил с братом, что, по-видимому, того не остановило. Затем Джон доставил его к Джейкобу Нэдуэю, чтобы отец мог поговорить с сыном. Джейкоб с готовностью воспользовался предоставленной ему возможностью, и все же собеседование пошло не совсем так, как он ожидал. Более того, результат аудиенции привел старшего Нэдуэя в полное замешательство.
Разговор состоялся в кабинете старого Джейкоба, полукруглыми окнами выходившего на «Лужайки», в честь которых до сих пор назывался их дом. Это был традиционный викторианский особняк, о котором в то время можно было бы сказать, что он построен мещанами для мещан. При его строительстве использовали невероятное количество выпуклого стекла, как для оранжерей, так и для полукруглых окон. В нем также было множество сводов, куполов и навесов. Казалось, все террасы и веранды накрыты зубчатыми деревянными зонтиками. Здесь было немало довольно уродливых витражей и много не то чтобы уродливых, но очень неестественных стриженых живых изгородей. А кроме того, большой голландский сад в придачу. Словом, это был один из тех удобных викторианских особняков, которые эстеты того времени считали весьма вульгарными.
Мистер Мэтью Арнольд[41] прошел бы мимо такого дома с удрученным вздохом. Мистер Джон Раскин[42] в ужасе бы от него отшатнулся, призвав на него проклятие небес с соседнего холма. Даже мистер Уильям Моррис[43] что-то недовольно проворчал бы насчет архитектуры, схожей с обивкой для мебели. Но вот по поводу реакции мистера Сэйкеверелла Ситуэлла[44] я не уверен. Мы уже достигли того периода, когда изогнутые окна и террасы под балдахинами придают домам налет задумчивого обаяния прошлого. Не исключено, что мистера Ситуэлла можно было бы встретить где-нибудь внутри дома, блуждая по которому он слагал бы стихотворение, посвященное его старинному очарованию. Хотя это наверняка удивило бы мистера Джейкоба Нэдуэя, если бы тот застал поэта за подобным занятием. Но я не берусь предположить, стал бы даже мистер Ситуэлл посвящать стихи мистеру Нэдуэю после беседы отца со своим младшим сыном.