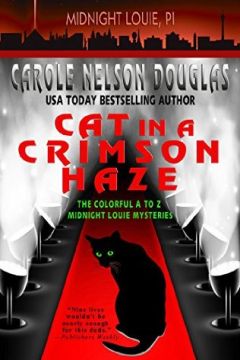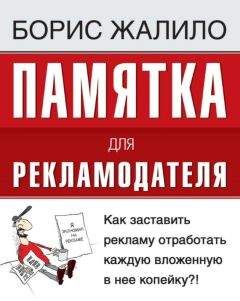— Но ты, по крайней мере, замечал геев-семинаристов?
— Нет. Мы были так молоды, так горячо стремились к благодати и служению, так решительно причисляли себя к среднему роду… Я ведь читал мемуары бывших священников. В некоторых были прямые намеки… но я даже не замечал этого! Мы могли подшучивать, и довольно зло, на тему целибата друг с другом, но настоящие свои сексуальные заморочки обсуждали только с духовником. А как с этим обстояли дела среди монахинь?
Сестра Стефания отшатнулась:
— Никто никогда не задавал мне подобных вопросов! А сейчас мы постарели, и с возрастом совершенно естественно перешли в статус бесполых существ… По крайней мере, мы — монахини. К тому же, женщины крайне редко растлевают детей, гораздо реже, чем мужчины… возможно, лишь потому, что мы по натуре более законопослушны, а не по причинам какого-то морального превосходства. Я думаю, в этом еще играет свою роль материнский инстинкт, который не позволяет совершать насилие в таких извращенных формах… Хотя что я или ты можем знать об этом? Возможно, я снова себя дурачу, глядя на мир сквозь розовые очки невинности. И все же, мне кажется, я бы знала. Монахини живут общинно, они воспитаны в послушании и не имеют таких искушений, как у священников — вроде свободы принятия собственных решений или хождения по церкви поодиночке.
— О, святые отцы могут выглядеть так, точно господствуют над своей паствой, но, поверьте мне, они совсем не так свободны, как вы думаете. Даже епископы. Даже Папа.
— Ты утратил веру, Мэтт?
Сестра Стефания задала этот вопрос робко, но проблема, стоявшая за ним, была настолько серьезной, что Мэтт некоторое время молчал, прежде чем ответить.
— Нет, не думаю. Я признаю, что религия была моим настоящим призванием, и понимаю, что найти его когда-то стало спасением для меня. Я никогда не перестану уважать многих по-настоящему посвященных людей, которых я знал, и неважно, что там написано в газетах. И я никогда не буду судить братьев или сестер, — Мэтт попытался выдавить улыбку. — Меня раздражают бюрократия, лицемерие, отсутствие терпимости, и иногда мне кажется, что церковные приделы переполнены всем этим под завязку. Я признаю главный конфликт сегодняшнего дня: церковь патриархальна, ее узаконенная сексофобия вызывает непреходящий кризис в жизнях как церковнослужителей, скованных целибатом, так и мирян, но я пока не разобрался во всех оттенках своей проблемы. Моя совесть может в конце концов поставить меня перед выбором, и я окажусь за дверью — если те, кто находится внутри, не примут меня таким, каким я стремлюсь быть. Я пока не знаю.
Стефания содрогнулась:
— Ну и… вопрос ты поднял! Я рада, что вышла на пенсию и теперь просто жду так смиренно, как могу, когда Господь призовет меня к себе. Там будут все ответы. И все равно я не понимаю, почему ты ушел из служения.
— Чтобы это понять, вам нужно сначала разобраться, почему я принял сан.
— И почему же? — ее седые брови встали домиком, как у престарелого терьера.
Мэтт никогда не видел сестру Стефанию в такой неподдельной растерянности. Она вдруг показалась ему совсем старой.
Он ответил торопливо, как семилетка на первой исповеди, и даже сам удивился, что его ответ звучит вполне связно и продуманно:
— Я принял сан, стремясь быть безупречным, как безупречен Отец наш Небесный. Я принял сан, желая быть идеальным пастырем. Я принял сан, желая избежать секса, брака и детей, потому что боялся всего этого. Уж конечно, я не нарушал священнических запретов — но не потому, что вера моя была так крепка, а дух так силен. Как могло послужить искушением для меня то, что меня больше всего пугало?.. Меня назвали в честь апостола, занявшего место Иуды после его предательства и смерти Христа — и вот он я, покинувший служение в возрасте Его распятия, в тридцать три года.
— Но почему, Мэтт?.. Ты был образцовым учеником, даже в детстве исключительно набожным… идеальный алтарник! Это совершенство казалось таким… или?.. — ее зрачки внезапно расширились от страшного подозрения: — Мэтт! Когда ты был алтарником… тебя… к тебе… приставал священник?
Мэтт покачал головой:
— Это, пожалуй, легче было бы пережить.
— Легче!.. Господи Боже, Мэтт, что?.. Меня просто парализует моя тогдашняя невнимательность! Я была твоей учительницей. Я так гордилась, когда узнала, что ты принял сан. И теперь ты мне говоришь, что это решение было бегством от чего-то ужасного, которое сформировалось еще тогда, когда ты был ребенком. Чего я не заметила?
— Не обвиняйте себя. Католики вечно обвиняют себя слишком исступленно. Я же говорю, никто из нас тогда даже не понимал своей собственной ситуации. Помните Мэри-Лу Зыковски?
— А, эта невероятная рыжая девочка… Жутко упрямая. Всегда мрачная. Она так плохо училась!..
— Я встретился с ней некоторое время назад на групповой терапии. Все ее школьные годы ее насиловали старшие двоюродные братья.
Сестра Стефания остолбенела. Она нашла в себе силы только покачать головой.
— Никто не знал — ни школьники, ни учителя, — сказал Мэтт. — Она тогда и сама не понимала, что с ней делают. Думала, так у всех.
— Мы ведь тогда даже предположить не могли, что в семье могут происходить кошмарные вещи. Семья — это было святое. Никто не смеет вмешиваться в семейные отношения…
— До сих пор слишком многие думают так же… Между прочим, она очень тепло о вас вспоминала.
— Обо мне?.. Как разговор на групповой терапии мог зайти обо мне?
— Вы буквально силой заставили ее ходить летом на дополнительные занятия английским после шестого класса, помните? Она упиралась и отбрыкивалась тогда, но сейчас уверена, что, если бы вы не занимались с нею английским дополнительно, она бы не смогла окончить школу. Просто провалила бы экзамен.
— Ну, да, мы старались. Иногда уделяли особое внимание детям из многодетных семей, которым не доставалось достаточно родительской заботы, или доставалась одна ругань. Я думаю, мы, несмотря на нашу оторванность от реальности, все же интуитивно подозревали некую отвратительную правду за семейным фасадом. Некоторые дети… они были как-то особенно склонны к несчастным случаям… вечно в синяках… вечно сами себя ранили. Поневоле призадумаешься и начнешь относиться к ним со всей возможной добротой…
— А как насчет детей, которые никогда ничего такого не показывали? — перебил Мэтт. — Тех, чьи родители были слишком хитрыми, чтобы их можно было уличить? Тех, кто чувствовал себя обязанным защитить своих родителей от физических свидетельств того, что мама и папа не умеют любить свое дитя?.. И, когда дети, наконец, осознавали, что над ними издеваются, они все равно не верили. И начинали обвинять самих себя.
— Дети могут жить в ужасных условиях и молчать. И выглядеть просто образцом послушания и воспитанности, — сказала Стефания, кивая головой. — Или не выглядеть. Кто бы мог подумать, что Мэри-Лу Зыковски будет с благодарностью вспоминать уроки, от которых она отбрыкивалась изо всех сил, плакала и злилась?.. А другие дети, наоборот, стараются изображать идеально безоблачную жизнь. Просто ангелы. Кто-то может даже подумать…
Она замолчала и уставилась на Мэтта так, будто видела его впервые.
Он пришел сюда, чтобы вытянуть из сестры Стефании то, чего она не знала. Вместо этого, она обнаружила то, что знала всегда, но никогда по-настоящему не осознавала. Ее рука взметнулась к лицу и захлопнула ладонью рот, как будто монахиня боялась сказать что-нибудь вслух, как будто надеялась этим жестом отменить внезапное осознание, пришедшее к ней слишком поздно.
— О, Господи… О, Господи, Господи… теперь я вижу то, чего никогда не замечала…
Да уж, — подумал Мэтт с каким-то странным облегчением, которое возникает в моменты абсолютной честности между друзьями.
Он был хорошим священником, но, как выяснилось, плохим детективом.
Глава 7
Que sera, sera!..[25]
Некоторые тут заявляют, что никогда не забывают лиц.
При моей работе лица мелькают туда-сюда, всех не упомнишь. Лично я никогда не забываю мест.
Итак, я снова прогуливался по тропическому эрзац-саду отеля «Хрустальный феникс», наполненному аурой ностальгии такой концентрации, что ее можно было разливать в бутылки и продавать странствующим голубям[26]. Впрочем, не уверен, что в окрестностях остался хоть один такой голубь — я слышал, они вымерли. Лично я, и я рад это заявить, не имею к их истреблению никакого отношения, а что касается популяции карпов, так она, кажется, выглядит вполне жизнеспособной.
Ах, карп! Уютное словечко — всего лишь из одного слога, но такое милое для меня. Когда кто-то произносит «карп», или же использует изысканное восточное слово «кои», в моей голове возникает образ золотой рыбки — великолепного пищевого ресурса.