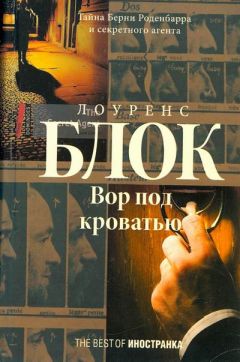— А это, должно быть, Анатрурия? — спросил я.
Она подошла поближе.
— Моя родина, — ответила она, и в хрипловатом голосе звучала ирония. — Центр вселенной.
— Ты ошибаешься, — возразил я. — Центр вселенной здесь.
— В Нью-Йорке?
— Нет. В этой комнате.
— О, ты так романтичен…
— А ты — такая красавица.
— О Бирнаард…
И тут, с вашего позволения, я, будучи человеком старомодным, опускаю занавес. Мы обнялись, и разделись, и улеглись на кровать — детали можете представить сами. Ничего такого, что бы не показывали по ящику на ночном канале — если вы, конечно, подключены к кабельному телевидению и ложитесь поздно, — мы, смею вас заверить, не проделывали.
— Бирнаард? Знаешь, иногда после любви мне хочется подымить.
— Охотно верю, — откликнулся я. — О, ты имеешь в виду сигарету?
— Да. Не возражаешь?
— Нет, конечно нет.
— Сигареты там, в тумбочке… Тебя не затруднит?
Я протянул ей наполовину пустую пачку «Кэмела» — укороченные, без фильтра. Она сунула сигаретку в рот и позволила мне, чиркнув спичкой, поднести ей огонь. Втянула дым, как утопающий втягивает воздух, затем сложила губы колечком и выпустила его, как это делала Лорин Бэколл, когда обучала Богарта свистеть.
— Конечно, сигареты, — сказала она вдруг. — Что еще, по-твоему, я могу курить? Не селедку же.
— Нет, это вряд ли, — согласился я.
— Это помогает уменьшить грусть, — заметила она. — Сказать тебе кое-что? Я хотела заняться с тобой любовью с той самой, первой ночи, Бирнаард. Но знала, что от этого мне станет грустно.
— Надо понимать, я тебя разочаровал?
— О нет, что ты, как ты можешь так говорить! Ты замечательный любовник. Это и разбивает мне сердце.
— Что-то я не пойму…
— Посмотри на меня, Бирнаард..
— Ты плачешь?
Протянув руку, я осторожно смахнул слезинку с уголка ее глаза.
Но на ее месте тут же возникла другая.
— Это бесполезно… Вытирать их, — сказала она. — Все время будут появляться новые. — Она еще раз глубоко затянулась. Уж когда она курила, так курила! — Так я устроена, — объяснила она. — От любви мне становится грустно. И чем лучше в постели, тем хуже я себя чувствую.
— Да, это нечто особенное, — пробормотал я. — К стыду своему должен признаться, что лично я чувствую себя просто великолепно.
— Нет, это одновременно и приятное чувство…
— Но тогда…
— А под ним все равно кроется грусть. И поэтому я курю сигарету. Мне не нравится курить сигареты, но хочется избавиться от тоски.
— И помогает?
— Нет. — Она протянула сигарету мне. — Не загасишь? Вот это блюдечко можно использовать как пепельницу… Спасибо. Побудешь со мной еще немного? И обними меня, Бирнаард…
Немного погодя она начала рассказывать. Да, квартира ужасная, но лучшую она позволить себе не может. Нью-Йорк — безумно дорогой город, особенно для людей без постоянного заработка. Но место довольно удачное, потому что всегда можно получить какую-нибудь работу в ООН, переводы или корректуру каких-нибудь материалов. До Первой авеню можно добраться на автобусе или даже пешком — если погода хорошая и есть время, всегда приятно пройтись.
Да, она знает, что надо сделать, чтобы привести квартиру в порядок. Можно покрасить стены, сменить этот ужасный ковер, можно даже купить телевизор. Как-нибудь она этим обязательно займется. Если, конечно, останется здесь. Если не переедет…
Тут ритм ее дыхания изменился, и я решил, что она уснула. Сам я уже давно лежал с закрытыми глазами и ощущал, как на меня накатывают волны сна. Но это «побудешь со мной еще немного?» не следовало расценивать как приглашение остаться в ее постели до самого утра. К тому же и постель была недостаточно широка для двоих. Нет, для занятий, предшествующих сну, она вполне годилась, и то если не слишком изощряться, но, когда речь заходит о том, чтобы всхрапнуть, что называется, от души, места в ней было все же маловато.
И я выскользнул из постели как можно осторожнее, стараясь ее не разбудить, подобрал и надел в спешке разбросанные по всей комнате предметы туалета — разумеется, только свои. А перед тем как задуть свечи, подошел к двери и отпер все замки, чтобы потом не возиться с ними впотьмах.
Затем подошел задуть свечи и замер. В слабом их сиянии вырисовывался семейный портрет в дешевой рамочке: застывшие в напряженных позах отец, мать и маленькая девочка лет шести-семи, по всей видимости, Илона. Волосы у нее в детстве были светлее, а черты лица — несколько расплывчаты, но уже тогда глаза отличало столь характерное выражение, насмешливое и самоироничное. Так мне, во всяком случае, показалось.
«Да ты, никак, влюбляешься, парень», — сказал я себе, тоже не без изрядной доли иронии в собственный адрес.
Я взял кристалл, взвесил его на ладони, положил на место. Посмотрел на иконы и пришел к выводу, что они подлинные и наверняка старинные, хотя, вероятно, и не слишком ценные. Потом ощупал какую-то бляху, то ли военного, то ли церковного назначения — бронзовый медальон с изображением священника в митре и надписью кириллицей на золотисто-алой ленте. На дне шкатулки, обитой изнутри бархатом, обнаружился талер с изображением Марии-Терезы и медальон белого металла с поясным портретом какого-то неизвестного мне короля.
Семейные реликвии, не иначе. И еще там находился миниатюрный зверинец: крохотные чугунные собачка и кошечка (раскрашенные от руки, причем краска местами облупилась); еще одна собачка из раскрашенного фарфора; три фарфоровых пингвинчика (у одного был отбит кончик крыла), а также изящный резной деревянный верблюд весьма флегматичной наружности. Очевидно, со времен детства хранились и другие сувениры: миниатюрные чашечка с блюдечком — единственное, что уцелело от кукольного чайного сервиза.
Я уже собрался было задуть свечи, как мое внимание привлекла еще одна фотография. Она стояла на сундучке, в рамке на подставке, и на ней были сняты мужчина и женщина примерно моего возраста. У женщины были роскошные волосы, зачесанные вверх и высоко поднятые надо лбом, сразу напомнившие мне меховую шапку с этикетки «Людомира». Одета она была в приталенный жакет, на плечи наброшен палантин из чернобурой лисицы. На нем была норфолкская куртка[14] с поясом и разлетающийся шарф, и одной рукой он обнимал даму за талию, а другую вскинул в приветствии. И еще он ослепительно улыбался прямо в объектив.
Его лицо показалось мне знакомым. Но я никак не мог вспомнить, где его видел.
Все еще размышляя над этим, я задул третью, и последнюю, свечу, и сияющее улыбкой лицо исчезло. Что изменило ход моих мыслей и заставило задуматься о том, где же находится недавно виденная мною дверь. Единственное окно в комнате Илоны не пропускало никакого света, и в ней было почти так же темно, как в той квартире в «Боккаччо», к тому же я не захватил с собой фонарика. Но тут я заметил просачивающуюся из-под двери полоску света и умудрился добраться до нее, не налетев ни на один предмет.
Я вышел в коридор и затворил за собой дверь, потом подергал ее — убедился, что автоматический замок сработал. Мне претила сама мысль о том, что я оставляю Илону лишь с этой хрупкой преградой в виде автоматического замка между ней и всем огромным злым миром, но что поделаешь, ведь и инструментов я с собой не взял. Если бы они были при мне, можно было бы запереть дверь как следует. Но, может, оно и к лучшему. Иначе пришлось бы объясняться.
К концу дня собрался дождь, но теперь небо очистилось и ночь стояла ясная, тихая и на удивление теплая. Я находился всего в пятнадцати минутах ходьбы от своей лавки, но если бы зашел, то пришлось бы ждать целых девять часов до открытия.
Любовные игры вселяли в Илону грусть, меня же, напротив, взбадривали невероятно, что делало нас образцовыми сексуальными партнерами. Я ощущал такой прилив сил, что готов был дошагать до Сент-Луиса и там влепить кому-нибудь в морду. Я прошел восемь или девять кварталов и взял такси. И вот, уже втягивая ноги в машину и устраиваясь на заднем сиденье, подумал: а что, если отправиться прямиком в «Вексфорд-Касл» и убедиться, так ли плох тот самый «Людомир», как мне тогда показалось. Но вторая мысль, промелькнувшая в голове, признала первую совершенно идиотской, и я велел водителю отвезти меня домой.
На следующее утро, примерно в десять тридцать, я был уже на своем рабочем месте и читал «Алле, хоп!» — тоненькую книжку, посвященную дрессировке ручных кроликов. Я выудил ее со столика дешевой распродажи и решил немного отвлечься от Уилла Дьюранта, прежде чем поместить ее на стеллаж под табличкой «Домашние питомцы. Естественная история». Снимки кроликов были одно сплошное очарование, но текст давал понять, что они подвержены пагубному пристрастию грызть самые разнообразные предметы, в том числе книги и электропроводку.