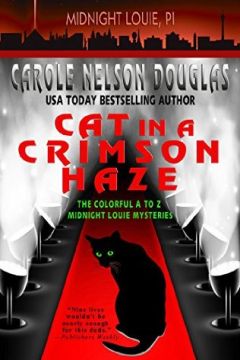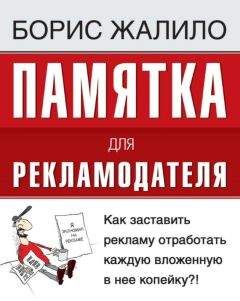— Ага, — Мэтт замялся. Темпл подозревала, что сейчас он выложит то, что его беспокоит — беспокоит даже больше, чем история его семьи. — Проверял. И… постоянно врал.
— Зачем?
— Как ты без кучи вранья вытянешь информацию из ничего не подозревающих людей?
Пока Темпл переваривала этот вопрос, официантка в такой короткой юбке, что она почти не прикрывала верхнюю часть колготок, подплыла к их столику, чтобы подать меню и принять заказ на напитки.
Мэтт немедленно уткнул нос в меню, спрятав глаза между строчками. Темпл отметила, что, стоит ему повернуть голову — и подол юбки официантки окажется как раз на уровне его носа.
Ее всегда волновал вопрос, почему, чем выше женщина, тем короче у нее юбка? Если бы Темпл нацепила эту черную штучку с узкой оборкой по краю, та пришлась бы ей где-то по колено.
Поглядев по сторонам, она отметила, что вся обслуга была одета в изысканной черно-белой гамме. Наверное, их всех прислали из Голливуда, с кастинга на массовку в ночном клубе сороковых годов. На мужчинах были смокинги, и у них у всех были усы шнурочком. Женщины были одеты в черное с тоненькими, как шнурочек, белыми кружевными рюшечками на всех правильных местах, от бюстье до юбок, включая даже черные шелковые шляпки-таблетки, лихо сдвинутые на правую бровь, как у коридорных в старые времена. «Ра-а-а-зрешите ва-а-ас пра-а-ава-адить?» Ча-ча-ча. Где пропадает Джимми Дюранте[33], когда он тут совершенно необходим?
Мэтт поднял голову от меню только когда официантка удалилась. Он наклонился через стол к Темпл и сказал приглушенным голосом, еле слышным сквозь оживленный гул остальных посетителей:
— Я надеялся, что это тихое место с приятной атмосферой, — он нахмурился. — Не знал про… э-э-э… обстановку.
Темпл не замедлила пошутить:
— Полагаю, весь этот черно-белый антураж напоминает тебе твое монашеское прошлое? Правда, в несколько извращенном виде.
Мэтт удержал лицо, несмотря на антураж, и даже несмотря на стыд от недавнего выворачивания своего прошлого.
— В большинстве монастырей, которые я знаю, теперь не используют старые монашеские одеяния, — сказал он, отметая напрочь ее игривое замечание. — А я имел в виду не одежду, а уровень шума.
Только теперь Темпл заметила, что в дальнем углу зала появилось трио музыкантов, пронзенное узкими лучами прожекторов. Тенор-саксофон тихонько переливал то вниз, то вверх расплавленное золото своих трелей, на заднем плане барабанщик мягко имитировал трещотку гремучей змеи. Блюзовый ритм рояля зазвучал, дополнив мелодию низкими гортанными аккордами, точно кашель курильщика.
— Тебе не кажется странным, — сказала Темпл, — что они начали делать все эти комедии про монахинь, типа «Действуй, сестра», только сейчас, когда монашки больше не носят черно-белую униформу, а ходят в цивильном?
— Сейчас это безопасно — почти не рискуешь никого оскорбить, кроме ортодоксов.
— Мне кажется, людей всегда завораживали священники и монахини, — задумчиво сказала Темпл. — Во-первых, необычная одежда, во-вторых, мистика целибата…
— Никогда не слышал, чтобы целибат связывали с мистикой, — сухо ответил Мэтт, откидываясь назад, чтобы дать место официантке с ее убийственной оборкой на подоле. Она выставила перед ним низкий бокал и длинные ноги одновременно и изящно.
— Что там у тебя? — Темпл смотрела на очень темный, почти непрозрачный напиток в его бокале — она не обратила внимания, что именно он заказал.
– «Черный русский». А у тебя? — он кивнул на ее бокал на тонкой длинной ножке.
– «Белая дама». Мне захотелось чего-то… элегантного. По крайней мере, мы хорошо вписались в окружающую гамму.
Они рассмеялись и отсалютовали друг другу бокалами. Потом одновременно отхлебнули и заговорили о более важных вещах — то есть о себе самих.
У Мэтта имелось в запасе еще одно признание:
— Я рад, что тебе нравится это место, и что ты смогла пойти со мной сегодня. Я боялся, что ты подумаешь, будто я тебя избегаю.
— Я знаю, что у тебя были дела, Мэтт. К тому же, я и сама была занята.
— Я заметил. Интересно, чем?
— О, это классно! Ты не поверишь, — Темпл, с присущим ей оптимизмом, обожала слушателей, на которых можно было обрушить гору сведений. — Меня наняли хозяева «Хрустального феникса», чтобы перенацелить отель на новый, семейный рынок. Это как играть в конструктор с настоящим, реальным маленьким мирком, строить волшебное королевство без помпезных лозунгов Диснея и без таких же помпезных вложений. А потом мне пришлось написать несколько реприз для «Гридирона» — ну, ты знаешь, ежегодное политическое сатирическое шоу, как в Вашингтоне. Жуткий Кроуфорд в этом году занял директорское кресло, и у него случился творческий кризис, так что я была вынуждена писать вместо него и придумала потрясающий, невероятный номер — Преисподний парк развлечений. Сочинить про Лас-Вегас что-то новенькое было еще той работенкой.
— Не сомневаюсь. Но зачем спасать Бьюкенена? Разве он не твой bête noire[34]?
— «Черный зверь» — это слишком шикарно для этого подонка! Ублюдок из теплотрассы — так правильнее сказать. — Темпл постаралась успокоиться, чтобы не портить вечер. — Но зато у меня получился очень смешной номер. Может быть ты… э-э-э… захочешь пойти на «Гридирон»? Со мной. В смысле, посмотреть, как это будет выглядеть на сцене.
— Звучит многообещающе. Конечно, я пойду. Если моя… сыщицкая деятельность не потребует от меня присутствия где-то в другом месте.
Темпл кивнула с понимающим видом, а сама уже начала прикидывать, что бы такое надеть ради этого знаменательного события. У нее никогда еще не было свидания на шоу «Гридирона». У Макса в прошлом году как раз во время шоу шло свое выступление на другом конце Стрипа. Даже профессиональный фокусник не может присутствовать одновременно в двух местах. Сердце у Темпл сжалось при мысли о том, что меньше года назад они с Максом еще были вместе.
На заднем плане певица начала тихонько распеваться. Темпл позволила убаюкивающим волнам музыки окутать свои воспоминания, подобно сигаретному дыму, который, к счастью, в ресторане отсутствовал, и с удовольствием вернулась из прошлого к настоящему. Это было прекрасно. М-м-м, этот ресторан — настоящая находка. Такой романтичный. И Мэтт выглядел так душещипательно, снова благодаря ее за дружбу и понимание.
— Мне так повезло, что я поселился в «Серкл Ритц», — как раз говорил он. — Как будто меня туда что-то… привело. Миссис Ларк… Электра… оказала мне такую поддержку. И ты — ты мой Сезам…
Пальцы на ногах Темпл снова поджались, теперь уже от удовольствия, как будто на них надели бархатные башмачки с загнутыми носами из сказок Шахерезады.
— Это удивительно, — продолжал Мэтт, — сколько разных дверей ты открыла для меня. Дверей в прошлое и в будущее.
В музыке зазвучало что-то знакомое. Забудь, — сказала себе Темпл. — Лучше помни, что поцелуй — это только поцелуй. Жизнь продолжается. Завтра снова придет рассвет. Не упусти его. Не застревай в прошлом.
Женский голос, глубокий и чуть хрипловатый, присоединился к мелодии саксофона. Он был цвета старого вина, темный и низкий, он явился из времени, которое прошло, отпевая мужчину, ушедшего навсегда. Потом вступил ударник — бесконечный ритм, точно дождь, барабанящий по крыше, точно кресло-качалка, точно железное сердце поезда, покидающего город…
И после этого — тук-тук-тук, непрерывный ритм дня и ночи. И мужчина, ушедший навсегда. И хрупкий вальс у стен тюрьмы. У стен дома. Тюремный рок… Нет, неправильная песня. Неправильная эра. Неправильные времена. Поцелуй — это только поцелуй, и нужно придерживаться правил. Всегда придерживайся правил. Неважно, как много было этих поцелуев, как много расставаний… Как проходит время. «As time goes by»[35]. «As time goes…» Бай-бай!..
— Темпл, — Мэтт наклонился к ней. Он выглядел встревоженным.
Она видела его сквозь мираж, созданный мелодией песни, точно это было залитое дождем стекло уходящего поезда, и он покидал город, или она покидала город, и никто не мог догнать удаляющийся вагон, уловить ритм, поймать стук сердца, дослушать песню.
Двое в дожде, любимый и ты, поцелуи и разлука, и такая знакомая песня… такой знакомый голос…
Рука Мэтта легла на руку Темпл. Он все еще тревожно смотрел на нее. Участие, как мило, но…
Черт возьми! Голос!
Темпл развернулась на стуле, оставив свою руку в руке Мэтта, точно живое существо, свернувшееся в безопасном убежище его теплой ладони. Она смотрела на темную сцену, пронзенную иглами света, пронизанную мелодией, такой знакомой, которая звучала снова и снова.
Силуэт певицы выделялся в пятне света, точно черная бабочка, приколотая булавкой к белому шелку. Ее кожа была белоснежной, цветок в волосах казался сделанным из черного бархата. Ее фигура была темной, как на портретах Эль Греко. Она была окружена сиянием.