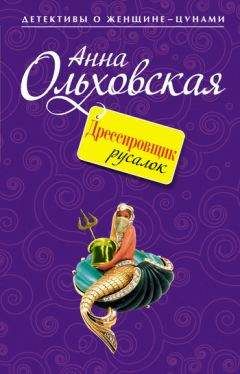Но самое главное отличие от первого дубля обнаружилось, когда я, прочитав три мантры и сосредоточившись на пупке, смогла приоткрыть один глаз. На этот раз повезло правому.
На самом деле повезло, потому что эта действительность была гораздо симпатичнее предыдущей. Видимо, потому, что каюту заливал яркий солнечный свет.
Стоп. Каюту? Какую еще каюту? Почему вдруг я решила назвать огурец каютой?
«Да потому, – услужливо подсказало подсознание, – что окошко тут круглое».
Ну и что?
«Качает, как на корабле».
Любое транспортное средство качает, даже коляску.
«Воду видишь, ослица?»
На отладку и фокусировку зрения ушло три минуты кряхтения и аристократичного мата (ну, типа «Сэр, не соблаговолите ли вы выйти на…? Благодарю»), но в итоге я смогла рассмотреть за иллюминатором ровную водную гладь.
И это было вовсе не море, хотя размеры глади впечатляли.
Но еще больше впечатляла растительность по берегам глади. Хотя какие там берега – берегов в привычном смысле слова (отмель, песочек, обрыв, утес, в конце концов, что серым мохом оброс) здесь не было. Над водой свисали заросли вконец распоясавшейся растительности: какие-то лианы, кусты, ветки, изогнутые стволы деревьев – вся эта зелень разнузданно переплелась друг с другом в самых затейливых позах.
Что-то непохоже на Турцию. Совсем непохоже…
– И куда это нас занесло? – прошептала я, боясь разбудить дочку.
Пусть еще поспит. Надеюсь, мои кряхтенье и нелитературные мыслеформы ее не потревожили. Мы теперь лежим на нормальной постели, с простыней, подушкой и одеялом, чего же не спать?
Ишь, закрутилась в одеяло с головой, так и задохнуться недолго. Вот же веретено!
Я осторожно отвернула край одеяла.
И пару мгновений тупо таращилась в пустоту. Потому что это было просто скомканное одеяло, без теплой сопящей серединки.
А потом и тошнота, и боль, и все остальные недомогания вдруг куда-то исчезли, затихарившись до лучших времен, и я превратилась в персонаж советского плаката времен Великой Отечественной «Таран – оружие героев!». В качестве таранящего дверь каюты средства у меня был стул. Правда, он быстро сломался, слишком уж хлипким оказался. Пришлось применить ноги, сначала правую, потому левую.
Дверь содрогалась и охала, она держалась изо всех сил. Но для реально стойкого сопротивления ей следовало быть стальной, а где вы видели стальные двери в каютах?
В итоге деревяшка окончательно выбилась из сил и одновременно – из дверного проема.
Хотелось бы сказать, что я легкой бабочкой выпорхнула из каюты, но трудно сохранять грациозность, когда у тебя забрали ребенка.
Кого больше всего боятся аборигены Африки? Правильно, разъяренного носорога. Вот такая носорожица и выломилась из клетки, еще раз протоптавшись по и без того униженной двери.
И ломанулась по не очень длинному коридору туда, где виднелся какой-то выход. Во всяком случае, лестница, ведущая вверх.
Истерически трубить «Доченька, где же ты, отзовись!» я не стала. Я вообще в состоянии амока не ору. Я рву, грызу, бью.
За дочь – убью. Любого.
Вот, например, этого белобрысого мужика, молча вставшего у меня на пути. О нем, похоже, говорила Ника, или здесь съезд белесых.
– Хальт! – гавкнул этот наивняк, предупреждающе вытянув руку вперед. – Цурюк!
Ага, действительно немец, дочка не ошиблась. Был бы коренным уроженцем Африканского континента – благоразумно посторонился бы, пропуская носорожицу. А так – получи!
Жаль, конечно, что у меня нет полноценного рога (только рожки благодаря Лешке), но и колено, с размаху врезавшееся в пах белобрысого, оказалось неплохой заменой. Там, по-моему, даже что-то клякнуло. А может, это сам дойч клякнул, обваливаясь на пол.
Цурюкать он мне будет, ха!
Прогрохотав по лестнице, я распахнула дверь и на мгновение ослепла, нокаутированная солнцем.
А когда проморгалась и отслезилась, обнаружила…
– Ника!
Дух носорожицы куда-то предательски слинял, уступив место моим собственным ощущениям, ноги немедленно ослабели, и я сползла по стенке, облегченно улыбаясь.
Вот она, моя девочка, стоит возле какой-то емкости, смеется, щебечет.
На английском щебечет, не замечая никого и ничего.
В том числе и того, что за ней внимательно наблюдает сидящий неподалеку в шезлонге господин МакКормик собственной плюгавой персоной.
Но мое появление Ника почувствовала. Она обернулась и, испуганно вскрикнув, бросилась ко мне.
– Мамсик, что с тобой? Зачем ты встала? Тебе же нельзя! – дочка смешно суетилась вокруг меня, периодически присаживаясь на корточки и заглядывая мне в лицо полными слез глазами. – Ты же слабая совсем! Посмотри, какая бледная, прямо синяя! Ну на минуту оставить нельзя!
– Я проснулась, а тебя нет. Мама разволновалась, а ты знаешь, что бывает, когда мама за тебя волнуется.
– Но ты же еще должна была проспать не меньше часа, Стивен так сказал.
– Тебе сказал?
– Ага. Я давно проснулась, еще когда мы в самолете были. Меня Лхара разбудила.
– В самолете? Лхара?
Помните, как у Пугачевой – «крикну, а в ответ тишина»? Вот такая же гулкая тишина, образованная вакуумом, гугукала сейчас в моей голове. С ходу вникать в ситуацию не получалось, возможно, потому, что ситуация оказалась слишком уж невникаемой, как базальтовая плита. Хоть голову всмятку разбей – не проникнешь.
Оставалось только надеяться, что усиленное тюканье лбом в ситуацию придало моему лицо вид одухотворенной нездешности, эдакой отстраненности. Главное – слюну не пустить для завершения образа.
– Мамс, не кривляйся, – фыркнула Ника. – Тоже, нашла время! Нам с тобой надо думать, как из Бразилии выбираться, а она рожи корчит!
О, еще и Бразилия! До кучи, так сказать. Боюсь, без слюней не обойдется, интеллект в них захлебнулся.
– Солнышко, – просипела я, потом откашлялась и продолжила: – А не могла бы ты все рассказать по порядку? Самолет, Лхара, Бразилия – мама тормозит.
– Позвольте мне, – оказалось, что мистер МакКормик уже не сидит в шезлонге, а высушенным чучелом павиана нависает над нами. – Я увидел вашу, Анна, растерянность, услышал слова «Лхара» и «Бразилия» и решил вмешаться в вашу с дочерью беседу.
– Вот те нате, хрен из-под кровати, – проворчала я, пробуя подняться.
– Простите, что? – Меня услужливо подхватили под руку и помогли принять вертикальное положение. – Я не говорю по-русски.
– И очень хорошо, что не говоришь, обсосок, – теперь можно и на английский перейти: – К чему изображать из себя джентльмена, мистер МакКормик?
– Так вы меня узнали?
– Ваши очки с обгрызенными дужками незабываемы. У вас что, в родословной грызуны были? И вам теперь надо постоянно что-то грызть, чтобы зубы во рту помещались?
– Острите? – Глаза ушлепка за стеклышками действительно объеденных очков холодно блеснули. – Это хорошо, это просто замечательно. Значит, мы с вами подружимся.
– Любопытные у вас представления о дружбе, – очень хотелось гордо оттолкнуть верхнюю конечность Хренова Экспериментатора, но предательские ноги вели себя совсем уж по-свински.
И даже не по-свински – у хрюшки довольно крепкие копытца, на которых она стоит весьма уверенно. Мои же ноги превратились в переваренные макаронины, причем даже не из твердых сортов пшеницы, и держать меня отказывались.
Поэтому пришлось терпеть общество плюгавчика, ведь Нике, старательно поддерживавшей маму под руку (скорее висящей на маминой руке), справиться с транспортировкой родительницы вряд ли удалось бы.
В общем, кучненько так, компактненько мы двинулись к расставленным вокруг небольшого пластикового столика шезлонгам. Потом меня бережно, словно песчаный куличик (не дай бог, рассыплется!), усадили в один из шезлонгов, и я собралась уже хорошенечко осмотреться, но в этот момент к нашей компании решил присоединиться обиженный мной белесый.
Странной, какой-то скованной походкой он подошел ко мне и, прошипев что-то очень недружественное, замахнулся.
Судя по траектории замаха, плюха должна была прилететь мне, но резкий окрик МакКормика вернул лапу блондина в исходное положение. То есть в область обиженных гениталий.
Белесый злобно залопотал на немецком, который я благодаря частым поездкам в Германию к Сашке знала неплохо. Чуть хуже, чем английский, но понять суть претензий дойча, оказавшегося Куртом, смогла.
И незачем так орать, истеричка!
МакКормик с сомнением перевел взгляд с рослого Курта на бледную немочь, растекшуюся по шезлонгу, и насмешливо уточнил у белесого:
– Значит, вот эта еле живая женщина, перенесшая остановку сердца и всю дорогу находившаяся под действием сильнейших транквилизаторов, снесла с петель дверь и вырубила тебя одним ударом?
– Еле живая?! – прошипел Курт. – Да она носится и лягается, как баварская кобыла!
Почему баварская?
– Ну да, ну да, – МакКормик сложил лапки домиком и участливо поинтересовался: – Ты сетку от мошкары не забыл натянуть над кроватью? А то, не дай бог, тебя мухи насмерть затопчут! Да, Анна?