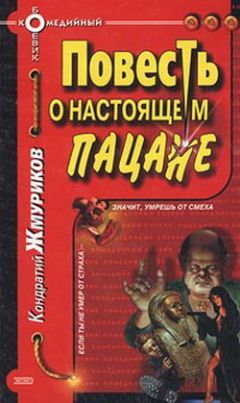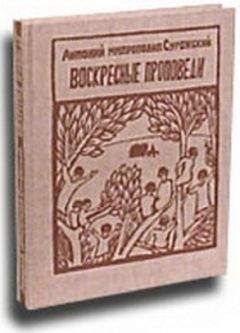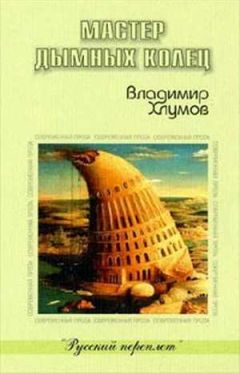— Разрешение на «ствол» имеется.
— Прекрасно, прекрасно, — сухо процедила Настя сквозь зубы, — тогда проберемся к дому. Спасибо вам, месь… спасибо, Ансельм. Ах да, вот деньги, — сказала она, наугад вытаскивая из сумочки несколько скомканных бумажек. — Вот, возьмите.
Тот принял деньги и, спрятав их в карман, негромко проговорил:
— И все-таки я бы не советовал вам…
— Я надеюсь, что вы не будете вызывать милиц… полицию, — перебила его Настя. — От нее одни геморрои. Что в России, что во Франции.
Луи, скаля белые зубы, ждал ее у забора. Настя хотела было заговорить, но тут ударил оглушительный удар грома, гулко, как гонг, раскатившийся в ушах двух приникших к изгооди людей. Сверкнула молния, и Настя, не спускавшая глаз с Луи, увидела, как в призрачно-белом свете сверкнула и истаяла белая полоска зубов.
— Allez, — коротко сказал он по-французски. — Идем, Настя.
Они прошли под висячим фонарем, испускавшим казавшийся тусклым в отсветах молний свет, и свернули на улицу, где находился дом Гарпагина. Настя взглянула на окна Степана Семеновича.
Окна гарпагинской квартиры полыхали.
…Нет, никакого пожара. Просто в бельэтаже дома горели все пять окон, чего прижимистый Степан Семенович никогда не допускал, разумеется, из соображений экономии. Одно из окон был раскрыто настежь, и оттуда вырывались звуки музыки (!), а также неясные обрывки глухих слов, а потом донесся хриплый вопль, который сложно было не идентифицировать:
— Ма-а-атор ка-а-алесы крутить!!.
— Они там, — коротко сказала Настя, вздыхая с явным облегчением. — Идем.
— Что-то не похоже, чтобы их там убивали, этих твоих друзей, — хмуро сказал Луи Толстой, — больше смахивает на банкет. Музыка, песни орут. Пьяные.
— У них вся жизнь как банкет, — отозвалась Настя, — только он, банкет этот, быстро переходит в похмелье. А вот похмелье — это уже сложнее. Так, вот их джип. А серого микроавтобуса я что-то не вижу.
— Уехал, наверно.
— Или ехал вовсе не сюда, — невольно содрогнувшись, проговорила Дьякова.
Они перелезли через высоченную ограду, причем Настя проявила при этом больше ловкости, чем Луи, которому, как известно, не впервой было преодолевать забор вокруг дома Степана Семеновича Гарпагина, и пошли по каким-то грядкам, в которых, как выяснилось при ближайшем рассмотрении, произрастали любимые помидоры Степана Семеновича. Луи хищно раздувал ноздри, водя дулом пистолета туда-сюда, а Настя, ссутулившись, шла за ним, пытаясь разобрать то, что долетало до нее из распахнутого окна.
Настя коснулась плеча Луи и произнесла свистящим шепотом:
— Ты еще не совсем офранцузился? Помнишь Россию?
— А что?
— Просто сможешь вскарабкаться по той трубе без того, чтобы не зайти в страховую компанию и не застраховать свою тушу на энную сумму?
— Н-ну уж ты совсем, — обиделся Луи, — вообще-то я не америкос какой-нибудь, чтобы вот так по страховке упираться. Я, между прочим, из Липецкой области, мой папа и посейчас на Новолипецком металлургическом работает, а я в детстве на учете в детской комнате милиции состоял, так что не надо меня так жестко чморить.
— Ну, судя по жаргону, ты из России-матушки не так давно сбежал, — пробормотала Настя, глядя на распахнутое окно на втором этаже.
— Ага. Два с половиной года назад. Я, между прочим, с Шемякиным знаком. Художник такой знаменитый. Михаил зовут его, — похвастался Луи. — Я вообще танцовщик по профессии. В разных парижских варьете танцевал, пока отовсюду не поувольняли к чертовой матери, как говорится, за профессиональное несоответствие.
— Пил, что ли?
— И пил тоже.
— Кокс еще?
— Угу.
— В-общем, все три «К», — подытожила Настя, — ну ладно, танцовщик… давай вон по той трубе шуруй. К окну. Дверь-то закрыта поди. Не засветишься, нет, Луи? И меня подсади.
— А может, ты меня, раз уж я этаким лохом вышел? — недовольно пробурчал тот. — Ладно… сейчас попробую. Оп-па!! — Одним прыжком он вскочил на карниз подвального этажа, а потом, подав руку Насте, подтянул ее до массивного выступа в стене, на котором при желании могли поместиться человек пять, при одном условии, что они не страдают ожирением и гипертрофированностью стоп ноги. — Подержи пистолет. Сейча-ас… погоди! — Луи ловко вскарабкался по трубе, придерживаясь за ветку старой яблони, поднялся на карниз бельэтажа и, приникая всем телом к стене, осторожно заглянул в то окно, что было приоткрыто.
И его глазам, а вслед за ними — глазам вскарабкавшейся Насти предстала следующая примечательная картина.
В гостиной — а это была именно гостиная — находилось пять человек: Эрик Жодле, Али с уже перевязанной головой, придерживающий рукой повязку, а также Осип и Иван Саныч, которого держал вверх ногами здоровенный детина, верно, из числа тех «черных людей», которые мелькали вокруг «мерседесовского» микроавтобуса у «Селекта». Иван Саныч болтался, как Буратино, тряс головой, а его самого трясли с такой силой, словно пытались вытряхнуть не только содержимое всех многочисленных карманов его, но и самую душу. Эта последняя, верно, и выпала в данный момент из Ивана Саныча, если предположить, что душа эта была заключена в надорванной упаковке презервативов.
— И что же ты мне мозги пудришь? — грозно вопрошал Жодле, но в его голосе, кажется, звучали довольно заметные нотки недоумения. — Ты что же, мальчик, не понимаешь, с кем играешься, нет? Понравилось разыгрывать из себя ВИП-персону, что ли?
— Я забыл, куда дел эту… эту коробочку, — проблеял Иван Саныч.
Осип, багровый, как последний закат августа, делал попытки встать из кресла, к которому его привязали веревками, и время от времени оглашал пространство комнаты хриплым воем:
— Маррруся в енституте-е-е… Сиклии-и-ифасо-вско-ва-а-а!..
Настя подумала, что если Жодле и бандит, то французские бандиты используют что-то уж больно гуманные методики для выколачивания информации из «клиентов»; по крайней мере, в комнате не было ничего, даже отдаленно напоминающего традиционный «дознавательный» инструментарий российских братков: паяльники, утюги, клещи или напильники.
Вместо этого Настя цепким взглядом выхватила из угла комнаты маленький шприц-«бабочку», именуемый также «инсулинкой».
Жодле что-то сказал верзиле, причем, кажется, не по-французски, и тот так тряхнул Ивана Саныча, что треснули новенькие кожаные штаны, обтягивающие тощий зад и худые ноги гостя из России, наткнувшегося в цивилизованной Франции на такой теплый и дружественный прием.
Жодле, кажется, начал терять терпение.
— Где футляр? — угрюмо спросил он, вставая и подходя к многострадальному Иванушке. В его голосе со злобы даже начал проклевываться довольно ощутимый акцент. — Говори, русская свинья!
И он ударил Ивана ребром ладони по почке так, что Ваня изогнулся, словно пойманный на крючок угорь, и сдавленно завопил что-то, а Моржов, которого и пальцем не тронули, заорал еще громче — очевидно, слова из песни блатного репертуара:
— Тихха-а-а спит у паррраши-и доходяга марксист!..
— Мочить! — коротко сказал Али, и его черные глаза блеснули волчьим огнем.
— Мочить? — повернулся к нему Жодле. — А диск? Да ты что, Али?
— Хорошо держатся, — сказал тот. — Первый раз вижу, чтобы после дозы «карлито» как упорно молчали. Правда, может, потому и молчит, что нечего сказать.
— А раз нечего сказать, то надо в расход пускать, — отозвался Али.
Хот последняя фраза и была сказана по-французски, но тем не менее Ваня, кажется, прекрасно понял ее плачевный для него смысл.
— Кому это не-че-го сказать? — заверещал он. — Я — усе — сказал!! Только говорю… я эту коробочку зашвырнул куда-то! Я ее открыл, там лежал мини-диск… хороший такой, радужный. Я думал — музыка. Влепили диск в DVD, а он нив какую! Мы его и так, и сяк, а музыки нет как нет. Я его и забросил.
— Мы смотрели возле музыкального центра, — холодно сказал Жодле, — там ничего нет.
— Дык погоди, Саныч, — вдруг проговорил Осип, — ето самое… ты ж енту коробочку белую подставлял под кофе. Говорил, прикольно. Не хуже сиди-ромы.
— А! — воскликнул Ваня. — Точно! Я же пил кофе и оставил этот диск в кухне. Прямо в коробочке, на которой вот эта дамочка…
— Это не дамочка! — сурово перебил его Жодле. Ни один, даже самый опытный физиономист не признал бы в этом угрюмом мужчине с колючим ястребиным лицом того галантного француза, что сначала прислал Насте и Ивану Санычу бутылку дорогого вина, а потом едва не использовал Астахова так, как он обычно пользовал женщин.
Верно, сознание этой глупейшей в жизни ошибки и самого нелепого происшествия, какое только ни случалось с месье Эриком Жодле за весь его богатый событиями жизненный путь, и придавало ему дополнительную толику агрессии, смешанной с тревогой и со злобной досадой на самого себя, на Астахова, висящего вверх ногами, но никак не сподобящегося указать местонахождение искомой ценной вещи. На нетрезвого Осипа, орущего глупейшие песни про Марусю и про спящего у параши марксиста-доходягу.