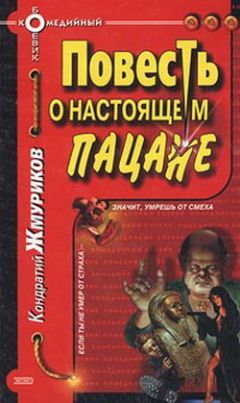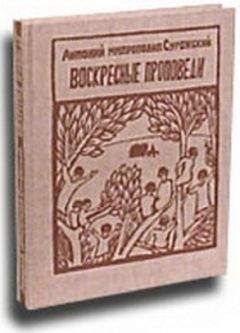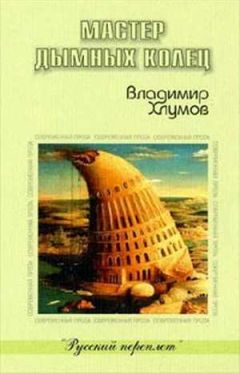Верно, сознание этой глупейшей в жизни ошибки и самого нелепого происшествия, какое только ни случалось с месье Эриком Жодле за весь его богатый событиями жизненный путь, и придавало ему дополнительную толику агрессии, смешанной с тревогой и со злобной досадой на самого себя, на Астахова, висящего вверх ногами, но никак не сподобящегося указать местонахождение искомой ценной вещи. На нетрезвого Осипа, орущего глупейшие песни про Марусю и про спящего у параши марксиста-доходягу.
На весь мир.
Эрик Жодле махнул рукой верзиле, державшему Ваню Астахова, и тот отпустил ноги многострадального россиянина. Начав свое стремительное поступательное движение к полу, Ванин затылок наконец плотно впаялся в пол.
Если бы не толстый ковер, астаховскую голову могла бы постигнуть почти такая же плачевная участь, как затылок покойного Николя Гарпагина. Ваня коротко взвыл, растягиваясь на полу, а отпустивший его на вольный простор верзила крупными шагами вышел вон из гостиной и буквально через несколько секунд вернулся, держа в руке вожделенную белую коробочку с инталией.
При виде ее Жодле подпрыгнул и буквально выхватил коробочку из рук своего подручного.
— На ней стоял кофейник, — сообщил верзила.
Жодле злобно выругался и, подскочив к Астахову, хотел было пнуть его ногой, но не стал этого делать, а ограничился тем, что прошипел:
— Вот урод! Да ты хоть понимаешь, на что ты ставил свой вонючий кофе?
— Н-нет… — пробормотал Ваня.
— И это замечательно. Но ты все-таки не обессудь, мой русский друг и коллега, что мы обезопасим себя от возможных утечек информации. Известно ли вам, господин-госпожа Хлестов, что в предместьях Парижа чрезвычайно часты самопроизвольные возгорания, особенно в старинных домах, где высок процент деревянных построек? Известно ли вам это? Впрочем, ведь вы в Париже третий или четвертый день, так что не успели его узнать. Сегодня гроза, — продолжал Жодле, подходя к окну (Настя и Луи отпрянули). Сильный порыв ветра завил трубой тяжелые занавеси, Жодле отступил и продолжал: — и гроза великолепная. Такие вообще редко бывают в Париже, а если бывают, то всегда несут за собой неисчислимые беды. Мы, парижане, не такие закаленные, как вы, русские.
Иван Саныч, не понимая, к чему клонит Жодле, лупил на него свои серовато-зеленые глазенки. Осип вяло ворочался в кресле и, видимо, уже совсем утратив контроль над собой, бормотал под нос что-то включающее в себя слова «тундра», «вертухай» и «бля».
Жодле сказал еще несколько малозначащих слов, а потом добавил:
— Это хорошо, что господина Гарпагина и его дочери нет дома. Они, кажется, выехали в Париж, в свою квартиру в квартале Дефанс. Хотя нет, та квартира вроде как снята господами из Гамбурга. Значит, он выехал еще куда-то… впрочем, это не имеет значения. По всей видимости, месье Гарпагину неприятно находиться в доме, где убили его слугу и откуда унесли сейф.
— Дык ты ж, поди, и убил, падла хранцузская!.. — прохрипел Осип.
Жодле начисто проигнорировал заявление Моржова; он открыл коробочку и хотел было вынуть диск, в то время как верзила, державший еще недавно ноги Астахова, открывал канистру с бензином и меланхолично разливал ее по углам гостиной и по ковру. Жодле не обращал ни малейшего внимания на действия своего подручного и на то, как пучил глаза Осип, понемногу въезжая в смысл того, что должно вот-вот произойти, как трепыхался по-рыбьи на ковре Иван Саныч, на долю которого тоже перепало немного бензина. Жодле почти вынул диск из бархатистого гнезда, куда он был вложен, как вдруг крикнула ветка, ломаясь под порывом ветра… Жодле вскинул взгляд и встретился глазами с Настей.
— А, черт! — крикнул француз, захлопывая коробочку с диском. — Возьми ее, болван! — повернулся он к амбалу, продолжавшему как ни в чем не бывало разливать бензин. Али, как бы между делом щелкавший «зипповской» зажигалкой, выстрелил взглядом в окно и тут же, бросив ее на туалетный столик, выхватил пистолет.
Рявкнул выстрел, совершенно заглушенный очередным раскатом грома и дежурным пьяным выкриком Осипа, не отрывающего взгляда от канистры с бензином:
— …нас жы-дет… аг-гонь сми-и-иртельный… и фсе-о-о ж бессилен он!..
Настя скатилась с окна, рухнув прямо на клумбу и едва не вывихнув себе ногу, а Луи Толстой, вскинув пистолет, несколько раз беспорядочно выстрелил в Али, Жодле и третьего бандита, но не попал. То есть попасть-то он попал, но не в противников, а в глиняную статуэтку, старинный бюст Мольера, а также в настенный светильник, который не замедлил разлететься вдребезги и осыпать всю гостиную водяными брызгами тонкого тонированного стекла.
Луи спрыгнул на землю и совершенно правильно это сделал, потому что в следующую секунду, и Али, и третий верзила были уже у подоконника и разрядили все обоймы по слоистому, с колышущимися росчерками древесных теней и разрезаемому отблесками молний мраку, в котором за мгновение до того скрылись Луи Толстой и Настя.
— Али, быстро поймай их! — резко приказал Жодле по-французски, — а ты, — повернулся он к верзиле, — займись этими!.. — И он презрительно ткнул пальцем в Осипа и бултыхающегося на полу Ивана Саныча, явно оглушенного психотропным препаратом с нежным наименованием «карлито» и не имеющего собственной воли даже на то, чтобы даже подняться с ковра. — Только безо всякой стрельбы в голову, а то потом экспертиза черт знает что установит!
— Oh, bonne, — коротко ответил тот.
Али легко перемахнул через подоконник и спрыгнул с высоты метра в четыре так же непринужденно и свободно, как если бы это был прыжок со стула. При этом он умудрился приземлиться точнехонько на обе ноги и спружинить кувырком через себя с последующим вскидыванием обеих рук с зажатым в них пистолетом.
Если бы его в этот момент видел Иван Саныч, то он, несомненно, умер бы от ужаса, потому что понял бы, что с ним имеют дело настоящие профессионалы: то, что проделал только что Али, Астахов видел только в американских боевиках, да и то полагал, что это сплошь компьютерные спецэффекты, сдобренные показательным каскадерским трюкачеством.
Луи Толстой, который успел отползти за дерево, видел прыжок Али, благо на пятачок, куда приземлился чеченофранцуз, падала полоса яркого света из гостиной; Луи, быть может, даже успел бы подстрелить прыгуна, если бы не вышеописанный «каскадерский трюк».
Но как против лома нет приема, так и против женской логики у мужчин не находится оружия: на Али, на которого не осмелился напасть вооруженный Луи Толстой, откуда-то сверху, с ветки яблони, свалилась Настя.
Взвизгнув, она вцепилась пальцами в голову оглушенного обломившимся суком Али и начала его мутузить, тыкая лицом в клумбу.
В то же самое время наверху, в гостиной, происходили не менее захватывающие события.
Жодле выскочил из нее и помчался вниз по лестнице, очевидно, не рискуя повторить прыжок Али, особенно если учесть, что портьера вспыхнула, как тополиный пух. Осип, который мутными глазами смотрел на верзилу, разливающего бензин и извлекающего из кармана зажигалку, вдруг уперся пальцами ног в пол и вскинулся что было сил; подлетев вместе с тяжеленным креслом, он со всего размаху напоролся на согбенного амбала, доливающего остатки бензина прямо на Ивана Саныча, и впечатался своим широким мясистым носом прямо в висок француза. Рот Осипа, таким образом, оказался прямо возле уха визави, и Моржов не замедлил впиться в этот хрящеватую ушную раковину своими лопатообразными желтыми зубами.
Знаменитый боксер Майк Тайсон, отведавший на вкус ухо не менее знаменитого Эвандера Холифилда, от зависти оросил бы ринг пересоленной бойцовской слезой, видь он этот великолепный маневр прикрученного к креслу Осипа. Любой судья немедленно засчитал бы нокаут несчастному французу, который почувствовал, каково было Чебурашке, когда к тому приходил ночевать пьяный крокодил Гена. А почувствовав, взвыл от боли во всю свою вольную парижскую глотку и попытался было отодрать от себя Моржова вместе с креслом.
Но тот не уступал и повис на ухе всей тяжестью своего дородного тела плюс вес упомянутой мебели.
Неудивительно, что ни француз, ни его несчастное ухо долго не выдержали. От дикой боли амбал разжал пальцы, и уже зажженная «Zippo» упала прямо на ковер, насквозь пропитанный бензином.
Пламя поднялось стеной. Встало в воздухе, как какая-то диковинная оранжевая поросль, стремительно заглушающая все остальные растения: коренастые пеньки столов и тумб, лианы занавесок и портьер, росток торшера и зеленоватый мох стареньких, немного выцветших, в полосочку, обоев. Огонь мгновенно охватил и француза, схватившегося за изуродованное ухо, и Осипа Моржова, и Ваню Астахова, который некоторое время с дурацким видом смотрел поверх пламени, верно, не чувствуя боли, а потом подпрыгнул на месте и крутанулся, как юла…