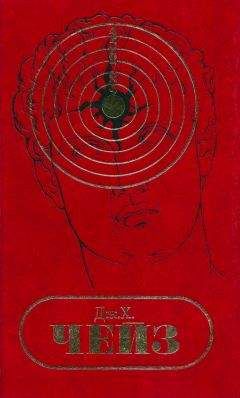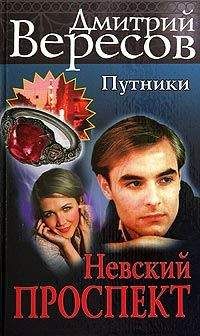Во всяком случае, мне все очень рады. Даже неловко порой. Всякий раз на вокзале меня встречает целая толпа. Все, кто есть там, все и приедут: дядюшки, тетушки, кузены, кузины, их дети, внуки и дети каких-то детей — не перечесть. Эти поляки — словно грузины по части родства. С русского взгляда я многим никто. Двоюродный плетень их забора, пожалуй, им ближе, чем я — но это на русский взгляд. А на польский взгляд все меня обожают, хоть и ругают Россию.
Да, мои поляки ругают мою Россию! Уж этого у них не отнять! Встречая меня, все соберутся и давай Россию ругать. Иной раз даже мысль возникает: «Не для этого ли они, поляки мои, собрались, чтобы я могла знать, как ненавистна им моя родина?»
Ну, конечно же, не для этого. Им просто жаль меня. Они просто сочувствуют и не понимают, как я в этой великой России живу?
А где еще жить мне, русской девушке? Правда, о том, что я русская, им невозможно сказать. Поляки не могут понять, что русскими в России становятся даже евреи. И так сильно эти евреи становятся русскими, что русскими они в своем еврейском Израиле потом и живут. Им даже свинину там есть разрешили. Поэтому в Быдгоще я, разумеется, полька — уж простите меня. И не потому я в Быдгоще полька, что евреям разрешили в Израиле есть свинину, а потому, что поляки не могут понять, как я могу обожать эту Россию. Но зато я их тоже жалею: как они в этой тесной Польше живут? Там же российскому человеку и развернуться-то негде!
Все правильно устроил господь: великая Россия для россиян, независимая Польша в составе Европы, а уж евреи, они где хотят, там и живут. Потому что их любят везде.
Я вышла из поезда и упала в объятия Янека, троюродного брата моей мамы и своего троюродного дядюшки, сына бабушки Франи. За ним в длинной очереди стояли: Марта, жена Янека, Збышек, их сын, Каролина, их дочь, Петр, брат Янека, Дана, жена Петра, Ядя, их дочь, Марек, их сын, пан Ян Ляссота, родной брат бабушки Франи, пани Анна, его жена, Дариуш, их внук, Моника, его жена, и Якуб, сын Дариуша и Моники. Замыкали шествие бабушка Франя и дедушка Казик, который смущенно сказал:
— Прости, Музка, остальные приехать никак не смогли. Кто в Германии, кто в Бельгии. Жизнь разметала.
Я его успокоила:
— Ничего, мне хватит и этих.
Побывав в крепких объятиях родственников, я даже забыла, зачем приехала в Быдгощ. Изрядно помятая и зацелованная, стояла я на перроне и радовалась, что хорошо сэкономила на носильщиках: не будет проблем с моим багажом. Не всякому из родни даже по одной ручке от каждой моей сумки достанется. Многие, как это ни печально, пойдут порожняком — так много родни и так (выходит уже) мало сумок.
На вокзальной площади, как и положено, меня поджидал целый эскорт: «Рено», «Пежо», парочка «Мерседесов», два «Форда», одни «Жигули», три старые «Волги» и даже один «Запорожец». И еще они будут русских ругать!
— Музка, едем к нам? — чисто риторически спросила бабушка Франя, жестом давая родне понять, чтобы даже и не помышляли сегодня заграбастать меня.
Все состроили кислые мины, но покорились. Но каждый взял с меня клятву, что в ближайшее время я уделю внимание и их «бабке» да бисквитному пирогу с пьяной вишней. Особенно хорошо удавался этот пирог Дане, жене Петра, старшего сына бабушки Франи, поэтому приоритет я оставила за их семьей. Остальные пошли в порядке убывания кулинарных способностей жен. Таким образом мой друг детства Якуб оказался самым последним, поскольку вообще не был женат.
— Музка, как там Анна моя? — имея в виду бабулю, спросила бабушка Франя, едва мы переступили порог ее дома.
Музка — по-польски ласково, как по-русски Музочка, поэтому я не обиделась, а выразила уверенность:
— Думаю, что бабуля в порядке.
И привела бабушку Франю в неописуемое волнение.
— Как это «думаешь»? — поразилась она. — Разве вы с ней не видетесь?
— Видимся, но в последние дни нечасто. Я приехала из Франции, если ты не заметила по телеграмме, которую я дала в Тьонвиле.
— Телеграмму получил Петр, но как ты оказалась во Франции?
Несмотря на объединенную Европу, для бабушки Франи Франция не меньшая заграница, чем для нас Чукотка или Владивосток.
— Долго рассказывать, — буркнула я, всем сердцем устремляясь на Старо Място.
Точнее, в костел двенадцатого века, где меня вполне уже мог поджидать мой любимый Казимеж. Но пока я душой и сердцем рвалась в действующий памятник старины, бабушка Франя хлопотала над праздничным ужином. Праздник, естественно, был в честь моей важной персоны. Точнее, сам мой приезд был для них праздником, причем искренним, а не просто поводом выпить. Мои родственники, к слову сказать, все как один малопьющие.
Я крутилась и так, и эдак, не зная, под каким предлогом смотаться в костел. Когда начали подтягиваться Янек с Мартой, я поняла, что будут сложности. А когда к ним присоединился пан Ляссота (со своей семьей) и его внук Дариуш (со своей), я окончательно прозрела: мысль о встрече с Казимежем придется оставить на завтрашний день. А сегодня буду сидеть в родном кругу, пить ягодные наливки, есть «кнедли» и «бабку» да петь «Марыся, Марыся, меня полюбила», а также «Хей, Янчак, хей!».
Так и вышло. Тот не знает настоящего счастья, кто из малой семьи. Когда за одним столом собирается толпа, и толпа эта не просто друзья или приятели, а люди, безмерно сочувствующие, всегда готовые прийти на помощь и воспринимающие твою боль, как свою, — это настоящее счастье. Меня подхватила волна всеобщей любви и с легкостью понесла от одного родного берега к другому. И везде мне были рады, и все меня безмерно любили, и каждый желал мне только добра. Моими победами здесь гордились, мои оплошности тут прощали, и не было места зависти, злобе, хитрости, колкости и недоверию.
«Неужели такую толпу состряпали всего два человека? — замирая от нежности, думала я, разглядывая лица тех, в чьих жилах текла кровь, очень близкая мне. Моя прапрабабка Магдалена полюбила прапрадеда Хенрыка, и вот результат. Столько народу! И ведь это еще не все, если верить дедушке Казику. Остальные разбросаны по другим городам Европы, и их трудно пересчитать».
Теплая ласковая волна несла меня и несла, и у каждого берега непременно вспоминалось обо мне что-нибудь эдакое, необыкновенное: для них, разумеется, не для меня. Дядя Петр с растроганным умилением рассказывал, как я в отрочестве завалила в костер его новенький мотоцикл. Дядя Янек, сверкая слезой безмерной любви, припомнил, как затеяла я волейбол в его огромной гостиной и разнесла вдребезги стекла. Вспоминал мои подлые «шалости» и радовался им как ребенок мой старший кузен Дариуш. Тетушка тоже расчувствовалась, восторгаясь, какой необыкновенной малышкой я когда-то была: наделала (простите) в кастрюлю и аккуратно грех свой крышкой прикрыла.
Все рекорды, однако, побил пан Ляссота. Он рассказал самый пакостный эпизод из моего польского детства. Оказывается, я подбила его правнука Якуба стащить шубу его матери, пани Моники. Новую беличью шубку мы толкнули старьевщику, а на вырученные деньги накупили дешевых конфет, которые щедрой рукой раздали всем, кого знали. Рассказывая все эти ужасы, пан Ляссота от умиления едва не рыдал. Он растроганно гладил меня по голове и с искренней нежностью приговаривал:
— Ах, какая наша Музка выросла красивая. Уж таких красавиц и не бывало в нашем роду.
И я ему верила: он действительно не замечал моих шепелявости и косолапости.
Счастливая и утомленная любовью родни, в свою спальню на втором этаже я попала далеко за полночь. Рухнула на кровать и заснула почти мгновенно. Лишь успела подумать: «А бедный Казимеж весь день проторчал в костеле».
Когда я сплю, в огромном доме бабушки Франи вся семья ходит на цыпочках. Даже собака не решается лаять. Магнитофон, телевизор и тем более радио включать запрещено категорически, даже если ждут сообщения о нападении Польши на вражескую Россию. (Как такое могло когда-то случиться?! Понять не могу! Как не пойму никогда нонсенса с Иваном Сусаниным, который в России герой, и постылый предатель в дружеской Польше. Своими глазами читала в одной польской газете нашему герою их горький упрек: «Как мог этот Иван — славянин! — так подло предать своих братьев поляков?» Уж не знаю истории, но постоянно гадаю: какая пакость стравливала веками нас, близких, родных по духу и крови поляков и русских? Думаю, шло все от наших немецких правителей. Это они так плохо относились к славянам, не иначе. Да простит меня немец — дед моего отца по материнской линии. Ведь я же его простила за то, что он в моих генах сидит и не дает мне покоя своей аккуратностью.) Но вернемся в мою спальню в доме бабушки Франи. Совершенно естественно, что на следующее утро проснулась я от истошного крика Марыси Сташевской. Она горестно сообщала всему кварталу, что пропал ее черный лифчик. При этом обращалась она почему-то к своему мужу, сумасшедшему Тадеку, — видимо, он ответственный за белье своей женушки. Почему сумасшедшему, спросите вы? А разве нормальный мужчина мог бы жениться на скандальной Марысе?