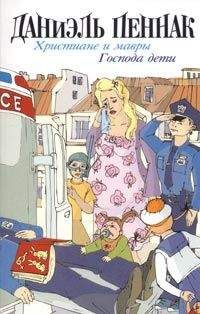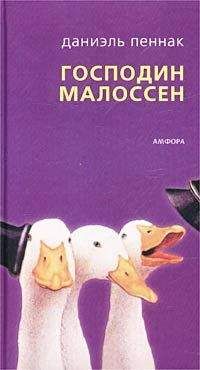– Вы подумайте, они его что твоего цыпленка обрабатывали, – вставил Амар. – Посмотрите, какая у него кожа на груди…
– Паяльная лампа, – определил Симон. – Торопились, наверное. Это все равно что красить валиком…
Познания Хадуша в области ожогов уточнили поставленный диагноз.
– Маленькие круглые пятнышки, вот здесь, на руках, это следы от сигарет, знаете, тех, светлых, у которых горящий кончик заостренный. А вот углубления на подошвах ног – это от сигары. Приятель удостоился чести давать интервью самому шефу. Сигара-то – ого-го! Двойная корона! Неосторожно, ему не следовало оставлять следов. Длинный Мо высказал свою гипотезу:
– Да плевали они на следы. Они же хотели развязать ему язык, а потом кокнуть, и все дела.
– Следы на трупе – это уже улики, – заметил Хадуш.
Аудитория сосредоточенно мотала на ус. Лауна продолжала свой курс травматологии.
– Вывих плеча, гемартроз коленного сустава, перелом нескольких ребер…
М о. Ребра пересчитали? Так у него, значит, и дыхалка вся продырявлена?
Л а у н а. Легочной перфорации не наблюдается, он не харкает кровью. Но он ее отрыгивает. Должно быть, много наглотался.
М о. А! Это, наверное, когда они принялись за его зубы! (Обращаясь к своим подопечным.) Всегда нужно следить за тем, чтобы все выплевывалось, когда имеете дело с зубами. Иначе они все будут глотать, глотать, а потом обгадят все вокруг в самый неподходящий момент.
Л а у н а. Нагноения ран, изъязвления на лодыжках и запястьях…
С и м о н. Сколько времени прошло с тех пор, как он исчез из больницы?
Л а у н а. Где-то дней десять.
С и м о н (оглядываясь на своих). Они держали его связанным десять дней.
Х а д у ш. Еще одна улика. Так что у нас получается, в конечном счете?
Лауна без особого оптимизма покачала головой:
– Показатели удручающие: давление упало, моча – кошмар, остальные анализы – хуже некуда, температура держится…
– У него есть шансы выкарабкаться? Чей-то новый голос отрезал:
– Он не умрет.
Все замолчали. Тереза, несгибаемая, как приговор, двинулась вперед, расколов аудиторию надвое, одной силой взгляда отстранила Лауну, взяла руку несчастного, перевернула ее как лист и долго разглаживала ладонь, прежде чем погрузиться в свое немое чтение, по завершении коего она повторила:
– Он не умрет. Потом уточнила:
– Это не простой человек. И еще:
– Он далеко пойдет.
Ж е р е м и. Хватит тут умничать! Скажи лучше, кто это.
Т е р е з а. Линии судьбы – это не удостоверение личности.
Ж е р е м и. Тогда для чего вообще вся эта твоя фигня?
Т е р е з а. Чтобы сообщить вам, что он не умрет.
Ж е р е м и. Конечно, мы ведь будем его выхаживать!
Перепалку прерывает Клара, которая, незаметно проскользнув к постели больного, с ненавязчивостью фотографа и врожденной способностью видеть все насквозь, прильнув одним глазом к своему старенькому «Роллею», кладет большой палец на спуск, и – раз!
Вспышка!
– Nooooo! Manfred, I didn't kill you!
Неизвестно, подействовал ли так свет от фотовспышки, но раненый резко поднялся, сел на кровати и голосом довольно мощным для полумертвого выкрикнул эту фразу, на английском:
– Nooooo! Manfred, I didn't kill you!
Это вырвалось из такой глубины, отдавалось таким страданием, звучало так неистово, с такой пронизывающей болью, отражаясь в его широко распахнутых глазах, что внутри у меня все перевернулось.
– Что он говорит? – спросил Жереми.
– Обращается к какому-то Манфреду, – перевела Тереза. – Утверждает, что не убивал его.
– Ты смотри, – удивился Хадуш, – свой человек, оказывается…
***
В конечном счете, этот свой человек появился как раз вовремя. Пасхальный звон только что открыл весенние каникулы. А надо сказать, что если ни с Терезой, ни с Кларой в таких случаях никогда не было проблем – каждая спокойно занималась своим любимым делом, – то вот с Жереми совсем наоборот: нечего было и мечтать, что он с головой уйдет в авиамоделирование. Снарядить же его бойскаутом на недельку-другую куда-нибудь подальше значило разжигать пламя войны.
Нет, что ни говори, наш постоялец появился очень кстати. Его присутствие мобилизовало войска Хадуша, утешало Лауну, держало в узде Жереми, развлекало Терезу и, думаю, что не ошибусь, если скажу, что Клара научилась отменно готовить именно благодаря этому недолговременному пополнению нашей семьи. Когда он только появился у нас, у него был недостаток буквально во всем: в белках, углеводах, жирах, полном наборе витаминов и море воды для того, чтобы соединить это все в одно целое, его нужно было правильно кормить, по часам и четко отмеренными порциями. К тому же, не будем забывать, что ему еще и с солитером приходилось делиться. Таким образом, требовалось питание полноценное и обильное.
– А главное – вкусное, как умеют приготовить только французы! Он американец, мы не должны его разочаровать.
На этот счет Жереми был категоричен.
Начиная с жаркого а-ля Россини до морского языка в соусе Морней, включая и рагу из телятины под белым соусом и говядину по-бургундски, он воспитывался на настоящих шедеврах, длинный перечень которых дополняли кускус Ясмины и седло барашка по-монтальбански. Века гастрономической культуры против варварства фаст-фуда. Клара готовила, все тщательным образом взвешивая и отмеривая, а Жереми взял на себя украшение блюд. Он стал настоящим ювелиром оформления. Впрочем, Тереза считала это излишним, ибо всякое блюдо, как бы оно там ни было приготовлено, должно было прежде пройти через миксер, чтобы попасть наконец по резиновой трубке в желудок.
– Если он может есть только протертые блюда, это еще не значит, что мы должны пренебрегать их внешним видом, – объяснял Терезе Жереми. – Я, например, когда нечего редактировать, работаю над слогом. Вопрос принципа.
– Ты не забыл обволакивающее? – прерывала Лауна.
– Фосфалюгель на месте! – рапортовал Жереми, как перед дежурным офицером. – Можно давать напор.
Тогда Лауна принималась за дело, а вся семья внимательным оком следила за продвижением пищи по шлангу, после чего всеобщее внимание переносилось на выражение лица больного:
– Кажется, ему понравилось.
Придавленный на время жгутами повязки, глист сворачивался клубком и давал наконец поесть своему хозяину, лицо которого тут же оживлялось здоровым цветом.
– Да, по нему видно: оценил.
– Еще бы! Это тебе не что попало. Я специально на площадь ходил все выбирать.
Все, как могли, подбадривали друг друга, потому что, по правде сказать, если прием пищи проходил, в общем, неплохо, то все остальное заканчивалось гораздо хуже. Те немногие силы, коих набирался наш больной, исчезали бесследно через несколько минут после кормления, вместе с воплем – все время одним и тем же, – выталкиваемым в неистовой злобе:
– CRISTIANOS Y MOROS!
И он откидывался на подушки, опять без единой кровинки в лице, будто и не ел вовсе.
Когда это случилось впервые, Жереми спросил:
– Что это значит?
– Христиане и мавры! – перевела Тереза.
– Мавры?
– Арабы, – пояснила Тереза.
– Это по-английски?
– По-испански, – поправила Тереза.
– CRISTIANOS Y MOROS! – повторил несчастный.
– Интересно бы знать, – проворчал Жереми, бросив на Терезу недоверчивый взгляд, – по-каковски он все-таки говорит: по-английски или по-испански?
После этого вопля наш больной обычно впадал в такое глубокое забытье, что Лауна вообще теряла дар речи.
Тогда-то солитер и присаживался к столу. Он урчал. Это, конечно, всего лишь образ, звуковой образ, но ни один из нас не испытывал никаких сомнений на этот счет: что-то насыщалось в утробе нашего пациента, что-то гадкое жадно поглощало шедевры Клары – воплощенная прожорливость, невидимая и самодовольная, опустошала тело, высасывая его наполнение. И этот грабеж оживлял муки сознания: «No, Manfred, it's not me!»
Он бредил, выплескивая какое-то урчание в желудке вместо фраз: пузыри на поверхности мертвого сознания. Брожение отчаяния: «Твоя смерть, Манфред, это – Папа!»
Бульканье сменялось яростными протестами: «Твой сынок плохо воспитан, Филипп! Он подкладывает мне бомбы под сиденье!»
Тереза все записывала, развернув блокнот на своих острых коленях.
«Святой Патрик! Где ты спрятал Херонимо?»
Тереза пыталась найти связующую нить. Она улавливала смысл и переводила как можно более близко к содержанию.«Папа, я не хочу твоих конфет! Манфред умер! Чтоб ты подавился своими мальчиками».
И после каждого приема пищи – этот вечный лейтмотив в непередаваемом нагромождении звуков: «CRISTIANOS Y MOROS!»
Настоящий воинственный клич. Хадуш первым заподозрил в этом что-то неладное.
– Да что он к ним привязался, к этим неверным и к арабам? Чего он от нас хочет, этот тип?
«CRISTIANOS Y MOROS!»
– А если это человек «Моссада»?
Хадушу стало не по себе. Он уже видел, как нас обрабатывают секретные службы Израиля, как втягивают нас в одну из этих религиозных войн, в которых взрываются мусорные бачки. Он даже отправился к раввину Разону с улицы Вьей-дю-Тампль. Раввин, будучи поборником мира, провел целую ночь у постели больного. Заключение его было категоричным. Конечно, оно было высказано в присущем ему мечтательно-ироническом тоне, но все же категорично: