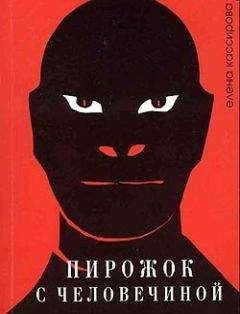Пропажи начались в ноябре. Осенью, как известно, обострение приступов у маньяков-убийц. В Митино, похоже, явился новый Чикатило. А смотрят косо почему-то на Костю.
– Ну и что же, что косо смотрят. Тебе с ними детей не крестить, – утешала Катя. – Наплюй. Маньяк не ты.
– Я, – шутил Костя.
Но скоро снова заговаривали о том же.
В самом деле, с какой стати тут маньяк? Маньяк нападает на слабых. А у Ваняева велосипедная цепь и перстень с шипом. И у Олега-киоскера…
– Кость, купи нам пушку.
– Где?
– В магазине «Охотник». Продают с восемнадцати лет любому.
– И что за пушка?
– Бьет на десять метров. Пневматическое ружье.
– Брось. У Олега из ларька был пэ-эс-эм. Не помогло.
– Что же делать?
– Ничего. Маньяк, по-моему, – чушь.
– Кость, давай уедем. Молчание.
– А, Кость?
Касаткин уезжать не хотел. Их отъезд никого не спасет. Даже, может, кого-то погубит. «Ведь я, в общем, один, – думал Костя, – мужик среди баб. Беленький и Лёва-Жирный не в счет. Остальные – черт-те что…»
– Сперва разберусь, в чем дело, – вслух сказал Костя.
– Ты уже разобрался однажды, – проворчала Катя, Она намекала на прошлые промахи. Но Костя сделал вид, что это комплимент.
– Лиха беда начало, – ответил он.
Этим все и кончалось. Переговаривались с Катей – и только.
Катя в эти дни бездельничала.
На каникулах хотела пойти с детьми в театр и на экскурсию – в Оружейку, конечно, чтобы показать «их с Костей» знаменитый ворованный драгоценный пернач. Родители отказались. Мало того. Они запретили детям подходить к Смирновой на пушечный выстрел. Слава Богу, у нее был дар выносить несчастье. Она, как всегда в мучении, сжала губы и просветлела.
А у самого Кости начались горячие деньки. Время было отпускное, праздничное. Народ жаждал ресторанов или, хотя бы, читки о них. Редакция удвоила Касаткину место для его рубрики.
Костя взялся жадно. После рождественского поста снилась еда. Сочинять было наслаждением.
Днями Костя строчил, авралил. А вечерами ходил на натуру – по клубам и кабакам. Иногда посещал два-три за вечер.
И везде ел. Страдал, видя, как их с Катей не любят, а сам угощался. Матери пропавших сходили с ума. Раиса Васильевна, Таечкина сестра, смотрела на Костю странными глазами. И сам Костя думал: «Где они? Почему пропали?» Но при этом пожирал суп из акульих плавников с имбирем и гусиный паштет под бешамелью, тянул из гофрированной трехцветной гэ-образной соломинки коктейль из семи компонентов и пил кофе «Голубая гора».
С Нового года все казалось безвкусным.
Но Костина колонка прославилась. Ему открыли двери все заведения. «Эксцельсиор» кормил очень дорогой говядиной. «НЛО», «Робинзон» и «Синяя борода» – менее дорогой экзотикой: мясом нутрий и змей. В геевских клубах цены были всякие, а кормежка стандартная, как в буфете в читалке или театре.
Касаткина потчевали бесплатно. В «Патэ&Шапо» Костя позвал Капустницу. Любви он ей дать так и не смог. Решил откупиться шиком.
Французский ресторан был действительно шикарным именно своей благопристойностью. Нинка от радости выглядела авантажно. Даже прозрачная блузка, которую в народе звали «мясо в целлофане», – в общей ресторанной респектабельности имела вид не подольской, а парижской.
И Капустница казалась не раскрашенной теткой, а ухоженной фрёй.
Костя с Нинкой заказали утиное крылышко и бутылку «Клико». Капустница смотрела на Костю, Костя – по сторонам.
В углу зала он увидел чье-то очень знакомое лицо.
От неожиданности Костя вдохнул шампанское не в то горло и зашелся кашлем. Когда он снова поднял глаза, в углу никто не сидел. Было много мрака и воздуха. Вино действовало. У Кости, наверно, разыгралось воображение.
Но, когда выходили из зала, Костю что-то полоснуло. Кто-то провел по ним взглядом, как бритвой. Костя оглянулся, но взгляд растворился среди чужих мужчин и женщин. Сидели местами компанией, но в основном – парочками.
Нинка была счастлива. Подумать только, она с Костей в «Патэ&Шапо»! От счастья Нинка стала грустной и не смела приставать с любовью.
Дома, в мужском коридоре, у своей двери, Капустница целовалась так, что Костя потерял было голову, но хриплый дальний смешок бомжей с чердачных ступенек Касаткина образумил.
Кстати, о бомжах. Сюрпризы были и тут. Костя побывал в снобистском геевском клубе «Принц и нищий». В зальчике танцевали. Костя зашел оглядеть второе, интимное помещение. Пусто, а на двухэтажных нарах на нижнем лежаке на газете стояли знакомые нищенские опорки.
Но Костя рад был, что у всех своя жизнь. Везде кипело. Если даже митинский бомж набирал на дорогой кабак, что говорить о Костиных соседях, приличных, больше того – лучших митинцах! Придет день, заживут припеваючи и они, не скрывая доход.
В мечтах о митинском счастье Костя временами забывал о митинском горе.
Но под утро, вернувшись сытый, шел по коридору и чувствовал, что от харчихиных маниакальных мясо-мучных паров уже поташнивает.
Святки кончились, а мороз – нет, но метели стали реже. Воздух был искрист, колюч и сух.
Все же с чердака несло душной прелью. Бомжи сушились у трубы вдоль верхних ступенек. На решетке на чердак за их спиной висел замок. Ступеньки были обжиты, как квартира. Ступенька – комнатка.
Трое сидельцев сидели ежедневно, несколько приходили время от времени. Ниже всех, у их ног – баба, верней, иссохшее существо. Рано утром бомжи уезжали попрошайничать, баба ходила недалеко, по помойкам за бутылками. Вечером возвращались.
Приходили из-за Харчихи. Она прикармливала. Лучше бы, думал Костя, кормила церковь. Сидели бы на паперти, а не следили, как стукачи, за жильцами.
Но Харчиха, маньячка выпечки, была близко, а храм далеко.
То есть и храм был близко. В двух шагах стояла однолуковая допетровская церковка Покрова-на-крови, но она сама прикармливалась кладбищем. Имелась еще одна церквушка, на кладбище. Но церквушка, собственно кладбищенская, была забита досками. Она числилась странным образом за РПЦЗ. Настоятель уехал в Канаду и пропал.
А эту допотопную Покрова только-только вернули московской епархии… Выродилась она в часовню еще до ВОСРа. В двадцатые годы маковку и крест комсомольцы скинули и устроили клуб. Но место на отшибе не подходило. При Сталине здесь был морг, при Хрущеве – филиал филевского хладокомбината. При Брежневе хранить стало особо нечего. Ближний совхоз устроил в церковке овощебазу. Над районом шефствовал университет. В сентябре в совхоз пригоняли студентов, они давали норму, везти ее никуда не везли. В Покрова сваливали без накладных накопанную ребятами гниль. Отец Сергий Сериков получил храм недавно. Хозяев и документов нет. С кого спрос? Но о. Сергий, молодой и вёрткий, всё устроил.
Жил он рядом, в Гаврилино, но вырос практически здесь: школы в Гаврилино не было, ничего не было, кроме, впрочем, мыловарни. Скот в совхозе дох, и давным-давно завели мыловаренную артель. Варили клей, свечи и прочее.
Артель отец Сергий прибрал к рукам в интересах дела.
Лишних средств на восстановление Покрова он не имел. Прихожан раз-два и обчелся. Существовал он мылом и еще панихидой. Хоронившие заказывали отпевания.
Снаружи Покрова-на-крови была почти невидимкой. Облуплена. Серовата, как пространство. Внутри – потемки, кирпичная рыжина стен и черные разводы от надписей углем. Все же батюшка на добытые средства уже выгородил фанерой алтарь и служил. Но запах гнилой капусты из подвала был неистребим.
Паперть, таким образом, пустовала, а нищие торчали на Костином чердаке. Висели на волоске. В любой момент могли нагрянуть власти.
Харчиха, однако, пятью сдобами насыщала пять тысяч.
Милиция ей доверяла и бомжей не трогала. И бомжи не трогали никого.
Главный бомж был аккуратен. Звали его Серый, то ли от имени Сергей, то ли от серой шинели. Смотрел он строго.
Второй, увалень Опорок, шаркал в обрезанных валенках, опорках. Опухшие ноги в голенища не влезали. Был под началом у Серого.
Сидели Опорок и Серый со случайными товарищами вверху в потемках тихо. Их подружка, помоечная баба, пьяница Поволяйка, из местных, пропившая квартиру и силы, Нюрка Поволяева, иногда вскрикивала: «У! А!» И всё.
Нищими духом, в смысле убогими, бомжи не были. Поволяйка, пока не спилась, острила и умела насмешить. А Серый с Опорком порой паясничали, но говорили грамотно. Слова доносились обыкновенные. Серый читал газеты. Хотя подруг не держали: не имели, о чем говорить с женщиной.
Нищими они были – по духу. Их держали в бомжатнике. Им давали жилье. Два-три дня они томились в четырех стенах, принимали душ, хлебали суп, потом уходили навсегда.
Впрочем, склочники любили кричать, что нищие богаче богатых и что у Серого на заработанную милостыню дом в Анталии.
Пропадали молодые здоровые люди.